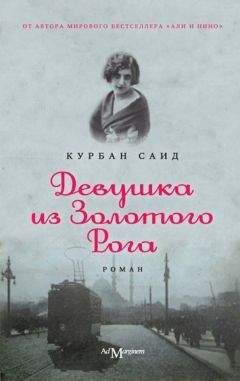Владислав Бахревский - Никон
— Благослови, святой отец! — попросил Никон, опускаясь перед монахом на колени.
Тот не удивился смирению митрополита и, ничего не отвечая, перекрестил.
— Ты кто? — спросил Никон.
— Мартирий, — ответил старец.
— Что же ты не спишь?
— Не спится… Я при мощах был, а ты вот пришел за ними.
— На то воля Божия, — сказал Никон.
— Я знаю, что воля Божия, только тоска берет. Давно при мощах. Из-под паперти Зосимы и Савватия еще откапывал. Они там рядом стояли, Филипп и Иона, наставник Филиппов.
— Слышал я: сразу-то мощи Филиппа не дались, как и мощи Иоанна Златоуста…
— Отчего ж не дались? — удивился Мартирий. — Оттаяли лед, и дались. Вода снизу подошла, гроба и примерзли. Гроба старые были, гнилые. Я к щели в Ионовом гробу свечу поднес, заглянул, а лицо у Ионы как живое, блеск от него и свет.
— Ну а чудеса… проистекали? — спросил Никон, недовольный простодушием старца.
— Были, — ответил старик. — В те поры инок Малахия зело зубной болью страждал. Так я дал ему от ветхого гроба Филиппа малую щепочку, он ее к щеке приложил, и болезнь прошла.
Посмотрел на митрополита печально и строго.
— Великих чудес не было. Недостойны. Грешники на Соловках ныне обретаются превеликие. Хоть тот же Арсен Грек, под мое начало отданный.
— Кто же он, этот Арсений?
— Еретик. Седых волос еще не нажил, а уже во всех верах был, не о благе бессмертной души памятуя, но ради сытости ума, пичкая дурную голову мерзостным учением врагов Господа нашего. Так и сказал мне: «Отче, был я во многих школах, во многих государствах. Ведь не примешь того государства веры, так и в училище не ходи, не возьмут. А мне наука слаще меда, отче!»
Никон состроил грозу на лице.
— Так этот грек и над православием смеялся?
— Зачем?! — удивился Мартирий. — О нашей вере он хорошо говорит. «Вижу, — говорит, — что у вас благочестие еще не изронено, не то что у нас. В Царьграде ныне и половины веры нет, все потеряно».
— Пошли, святой отец, помолимся у раки святителя нашего Филиппа о всех грешниках. — Никон пошел первым, сутулясь и шаркая ногами, словно нес уже на себе всю махину грехов человеческих.
6Инок Епифаний, сидя на возу, блаженно щурился на солнышко, и лошадка, чувствуя, что возница не торопится, шла ровно, чуть прибавляя шаг на подъемах. Это была умная рабочая лошадь, на ней возили разную хозяйственную поклажу разные люди, но из всех она помнила Епифания и старалась послужить ему. У этого монаха был тихий ласковый голос, добрые руки. Надевая упряжь, он никогда не забывал погладить лошадь, всегда у него находился кусочек хлеба, которым он украдкой угощал ее. Возы он накладывал посильные, а если не было поблизости строгого начальника, то и легкие.
Сегодня Епифаний возил конский навоз на закрытую лесом поляну, где монахи, северной земле на удивление, выращивали арбузы. Рыли траншеи, закладывали в них конский навоз на метр-полтора, лунки с семенами на первое время прикрывали.
От ласки солнца, от запаха пробудившейся для жизни земли мысли у Епифания были простые и коротенькие.
«Как славно, — думал он. — Слава тебе, Господи, что дал мне жизни! Слава тебе за всякую жизнь, сотворенную тобой».
Он, сказав эту саму собой явившуюся молитву, не отягчал более голову словами, а только улыбался, потягивая в себя воздух. Он был всем нынче доволен: судьбой, доброй лошадкой, Соловками, которые России-матушке кажутся издали погребом, набитым льдом.
К Соловкам Епифаний не только привык, но и сердцем прилепился. Он прожил здесь семь лет в послушниках и вот в начале года постригся в монахи. Епифаний был превеликий любитель книг, а у монаха перед бельцом для чтения привилегия. Старец Мартирий, живший с Епифанием в одной келии, был знаменитый книгочей и поощрял инока.
Епифаний, вспомнив о старце, улыбнулся и даже засмеялся тихонько. За день до приезда Никона подул северный ветер. Мартирий, озаботясь, собрался на пристань поглядеть, все ли там в порядке для приема гостей. Хотел душегрею под рясу поддеть, а ее нет. Все в келии перерыли — пропала душегрея. Осерчал старец, на келейника своего зыркнул так, что хоть пропадом пропади, и надоумил Господь Епифания подойти к Мартирию да и пощупать его за бока. Тут и сыскалась душегрея на телесах старца. Оба хохотали до слез, и старец был благодарен духовному сыну за необидчивость.
— Эй! Эй!
Епифаний вздрогнул, его подводу догонял верховой, из бельцов. Епифаний остановил лошадь. Белец подскакал, спрыгнул с седла.
— Тебя зовет архимандрит Илья. Садись на мою конягу, а я буду навоз возить. Да живее скачи. Дело спешное.
Инок, привыкший к послушанию, не раздумывая и не спрашивая ни о чем, сел в седло и поскакал в монастырь.
Архимандрит Илья повелел ему идти на ладью, отвезти митрополита Никона в Анзерский скит.
7Погода стояла блаженно тихая. Воздух был золотист, и облака как золотые кущи.
Шли на веслах. Сменившись, инок Епифаний прошел на корму, сел на лавку, опустил руку в воду.
— Тепло-то как!
Никон, стоявший неподалеку, перегнулся через борт и тоже попробовал воду.
— И вправду тепло. Чудо! Июнь в самом начале, а вода нагрелась.
— Руке тепло, а попробуй искупайся, ноги так и сведет, — сказал Епифаний и, видя, что митрополит повернулся к нему и слушает, добавил: — Арсен говорит, если бы на Соловках горы были, от северного ветра защита, то все бы у нас росло и зрело не хуже, чем в Московии.
— Кто этот Арсен? — спросил Никон.
— Гречанин. Тюремный сиделец. Еду ему ношу. Он под началом у старца Мартирия, а Мартирий мне — духовный отец.
Никон больше ничего не сказал, поднялся, нетерпеливо ожидая, когда ладья причалит.
— Я хочу побыть один, — остановил он свиту, двинувшуюся было за ним следом.
Пошел вглубь острова быстро, уверенно.
— Как же быть-то? — спросил у товарищей своих Епифаний.
— Он здесь семь лет жил, — сказал один из старцев, — не заблудится.
Цветами встречал остров бывшего своего жителя.
Малиновой стеною поднимался кипрей, нога пружинила на затейливом ковре из брусничника, вереска и мхов. Среди кипрея стояли березки, ростом — дети, видом — старички. На побережье они принимали на себя все тяготы северной жизни: мороз и ветер. Никон помнил здешние ветра. Застанет вдали от обители, и тащишь его всю дорогу на спине или на груди, как мукой набитый мешок.
С детства надорвавшиеся под непосильной ношей, березки на побережье были низки, но невероятно живучи. Их гнутые-перегнутые тельца были сплетены не из древесины, а из железных жил, не поддающихся топору.