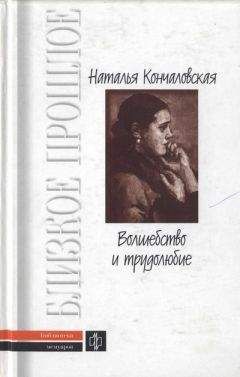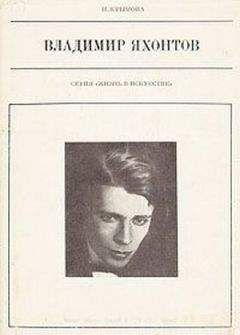Наталья Кончаловская - Дар бесценный
— Что ж, до вечера управимся с ними?
Поняла она, что попала в беду, затряслась вся, вскочила. Тут Вася открыл глаза, очнулся от лихорадки и видит, что мать одной рукой разбойнику деньги сует, а другой детей загораживает и плачет:
— Что хотите берите, только не убивайте! Дети ведь малые!..
Выручил их священник, что случайно по тракту со своим работником проезжал. Разбойник услышал, что едут, соскочил с облучка и скрылся в лесу, только красная рубаха замелькала в зелени… На всю жизнь запомнил Вася бледное чернобородое разбойничье лицо с бегающими глазами и дырявую кумачовую рубаху.
Черемуха
Сибирская черемуха — ягода особая. Крупная, черно-коричневая и терпко-сладкая. Собирают ее созревшую и сушат в печи, на поду, до шелеста. Потом толкут в порошок. Из толченой черемухи, распаренной с сахаром, делают знаменитые сибирские шаньги — треугольные и круглые ватрушки, смазанные сверху сметаной.
Прелесть какие шанежки пекла Прасковья Федоровна! Она начиняла их черникой, и черной смородиной, и черемухой. А каких только лепешечек из лесных ягод не заготавливалось на зиму! Их сушили и вялили на листьях в протопленных печах на поду, как сушат грибы, коренья и травы. Вася туесами приносил из тайги грибы и ягоды для зимних заготовок. И эта любовь к душистым, терпким ягодным яствам осталась у него на всю жизнь.
Двадцать пять лет спустя, работая над картиной «Утро стрелецкой казни», Василий Иванович просил прислать ему из Сибири какую-то шапку для стрельца. В этом же письме он писал: «Сегодня утром стою и смотрю на ту сторону, где наша Сибирь и Красноярск. Так бы и полетел к вам. Ну, бог даст, увидимся… Вот что, мама: пришлите мне сушеной черемухи. Тут есть и апельсины, и ананасы, груши, сливы, а черемухи родной нету…»
В Торгошине
Укутанный до глаз, прижавшись к матери, сидел Вася в сибирской кошеве, широкой и высокой, как горница. Ехали через Енисей в Торгошино. Ледяные буруны Енисея громоздились глыбами. Дорога была тряская — ледяные волны не укатаешь!
Васе хотелось высунуться, рассмотреть все получше. Но Прасковья Федоровна крепко держала его за плечи, пока не переехали Енисей и не выбрались на ровную, накатанную полозьями дорогу. Лошади резво бежали, и серебряные валдайские колокольцы под дугой вели чистый перезвон в сухом морозном воздухе. Жгучий мороз щипал за нос и за щеки, норовил пролезть под кошму, но отец положил сверху старую свою доху из козули. Под ней не озябнешь.
А в Торгошине их ждали жарко натопленные горницы. Их ждало угощенье за столом с большим медным самоваром и, уж конечно, миска с дымящимися пельменями, румяные шанежки и ароматное варенье…
Деревянной ложкой Вася уплетает пельмени, поглядывая на сидящую вокруг многочисленную родню. Больше всех он любил маленькую Таню — дочку Степана Федоровича и Авдотьи Васильевны. Таня сидит напротив — приветливая, с такими же карими глазами, как у Васи, поминутно улыбается ему и подмигивает: «Ешь, мол, пельмешки, голодный ведь с дороги!»
Прасковья Федоровна ест неторопливо, словно нехотя, и рассказывает городские новости. Братья и невестки слушают, расспрашивают.
После чая раскрасневшаяся гостья сбросила шаль с плеч, улыбнулась и говорит:
— А спойте-ка нам, сестрицы, давно мы песен ваших не слышали!
Сестры переглянулись, пошептались, и вдруг одна из них затянула ровным низким голосом: «Свила птаха гнездышко». Три голоса подхватили песню, потом влились еще три высоких и чистых, как ручьи, и потекла песня рекой, то перехваченная одним альтом запевалы, то вновь вбирая высокие голоса и разливаясь в многоголосии….
Вася слушал, слушал, и ресницы его стали слипаться от усталости, горячего чая и радушного тепла торгошинских печей.
— Эй, казак! Уснул, что ли? — тормошит Васю дядя Гаврила Федорович,
Все смеются: мать, дядя Степан, худая бледная жена его — тетка Авдотья, а звонче всех — шестилетняя Танечка.
— А ты, Авдотья, еще похудела? — вглядываясь в лицо невестки, говорит Прасковья Федоровна.
— К расколу ее тянет. В скит все ездит, — отвечает за жену Степан Федорович, поглаживая свою черную, как уголь, бороду.
— Дяденька, а что такое раскол? — отваживается спросить Вася, искоса поглядывая на тетку Авдотью.
— Раскол-то? А это ты у своей крестной, у Ольги Матвеевны, спроси. Она вон тоже по скитам все ездит.
Ольга Матвеевна, стройная, высокая казачка с широко расставленными серыми глазами, подходит к Васе:
— Пойдем, крестник, я тебя спать уложу. Гляди, какой сонный, будто зимний карась.
Вася встал из-за стола, но сон вдруг улетучился.
— А про раскол расскажешь? — спрашивает он.
— Ладно, ладно, пойдем, там видно будет.
И вот лежит Вася, уже раздетый, на большой кровати с перинами и подушками, в гостевой горнице. Прохладная холщовая простыня щекочет пятки и саднит шею, ежели вертеть головой. Бревенчатые стены горницы потемнели от времени, низенькие оконца закинуты ставнями на болтах.
Ольга Матвеевна сидит рядом на скамеечке. Масляная лампа неярко освещает ее руки, проворно вяжущие рукавицу.
— Ну расскажи про раскол-то, обещала ведь! — Вася приподнимает с подушки кудлатую голову.
— Раскол — дело давнее. Это лет двести тому назад, при царе Алексее случилось. Был тогда главный поп — патриарх Никон, и вздумал он проверить, как в церквах служат. Пошел по церквам московским, видит — во всех попы по-разному молитву творят.
— А почему так? — удивляется Вася.
— Всё из-за книг; Книг-то печатных тогда не было, монахи их от руки переписывали, вот каждый и писал молитвы как ему вздумается. И приказал тогда Никон во всех церквах по одному молитвеннику служить — по греческому.
По греческому потому, что вера-то православная к нам оттуда пришла. Ну, тут одни попы согласились по-новому службу править, а другие отказались: «Мы, говорят, только по-старому молиться будем». Вот они и стали прозываться старообрядцами. Отсюда и пошел раскол. Никонианцы стали креститься трехперстным знамением — щепотью, а старообрядцы-раскольники смеялись над ними, говорили, что щепотью только табак нюхают да кашу солят, а крёстное знамение надо класть двуперстное.
— А я знаю, вот так!.. — Вася сложил руку, вытянув второй и третий пальцы кверху, точь-в-точь как на иконе, что у них в столовой висела. А кто же в раскол-то пошел? — Вася глядит на тетку темными немигающими глазами.
— Народ, все больше бедный. Крестьянские мужики, ремесленники да купцы, что победнее. А богатые да знатные, те ближе к царю были, не с руки им было против царя да Никона идти. Но была, Вася, одна боярыня. Звали ее Федосья Прокопьевна Морозова. Богатая была барыня… Вот она-то пошла в раскол. И сестру свою — княгиню Урусову — на старую веру переманила.