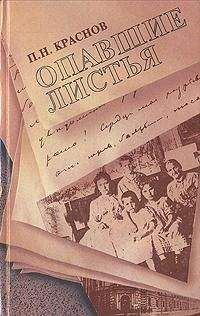Павел Мурузи - Александра Федоровна. Последняя русская императрица
— Вы слишком приукрашиваете ее портрет, — начала она. — А это ее невыносимое уродство, в котором ее не без причины упрекают, объясняется ее корнями, германской расой… Ведь она — немка…
— Нужно ли быть непременно немкой, чтобы подавлять окружающих своим чувством превосходства, — парировал мой отец. — Я знавал многих русских светских дам, да и сейчас довольно часто наведываюсь к ним, и могу заявить, что их высокомерие отнюдь не прусское, а доморощенное, наше, русское.
Наша гостья понимала, что уступает. И она решила искать преимущества в новом нападении.
— К тому же она была совсем неумной…
— Откуда вам это известно? — спросил уже довольно строго отец. — Вы, насколько мне известно, не были во власти, и судите о ней лишь по отрывочным словам, которые услыхали из ее уст… в сущности, вы повторяете все то, что слышали от лиц ее окружения.
— Видите ли…
— Прошу прощения. Не перебивайте меня. Когда я говорю о таких «лицах», я имею в виду некоторых членов императорской семьи или некоторых еще более напыщенных аристократов, которые высказывали свое мнение о царице, вернее, то, что им казалось в Ее величестве. Спросите кого угодно, — ее супруга, ее дочерей, ее горячо любимого сына, ее близких подруг, наконец, ее слуг, и все они вам скажут, что она всегда, беседуя с ними, была такой простой, тонкой и справедливой.
— Нет, я не люблю эту женщину, — наконец, призналась Ольга Юрьевич. — И как вы, Константин Александрович, можете ее защищать, зная, что она ускорила гибель прежнего режима.
Мой отец встал. Он был явно взволнован. Он резко выпалил:
— Вы не имеете никакого права говорить подобные вещи! Поверьте, несколько лет я был скромным чиновником нашей несчастной империи. Я знавал много секретов. Разве ныне не мой долг, моя обязанность, бороться со всей этой ложью, с этой злостной пропагандой, во имя торжества истины? К тому же у нас есть дети. У вас их трое, как и у меня, — два мальчика и девочка. Послушайте, дорогая Ольга, научите с уважением относиться Ирину, Ксению и Кирилла к той, кто была государыней их родителей. Постарайтесь скрывать ваши женские чувства, в чем я совершенно не желаю вас упрекать. Не поощряйте этих глупцов, которые ради придания большего интереса к своей личности, без всякого колебания прибегают к непростительной клевете, чтобы опорочить безупречное это создание, которое прошло через двойную Голгофу и которое не обладало самой элементарной своей привилегией — любви других к себе! Это говорю вам я.
— Вы останетесь ее последним кавалером и рыцарем после ее смерти, — заключила мадам Юрьевич, поднимаясь со стула, давая тем самым хозяевам понять, что она уходит.
— И я не один в таком ее почитании, Ольга Петровна! Да и к тому же какой с меня спрос? Я теперь живу в Париже, у меня французская семья… сегодня я уже ничего не могу предпринять.
И когда он произносил эти прочувственные слова, я заметила, как в глазах моего отца блеснули слезы. Сердце мое глухо забилось. Я, правда, ничего не понимала, но мне казалось, что истина на его стороне, и что у него есть, что защищать.
Моя мать сделала гостье такое предложение, правда, не очень на нем настаивая:
— Почему бы вам не остаться, моя дорогая, не отобедать вместе с нами?
— Нет, меня ждет дома Ксенюшка. Нас ждут в магазине великой княгини Ирины, где мы будем продавать вещи русского Красного Креста… К тому же Костя все время меня поддразнивает. Ему так хочется доказать, что наша императрица была чудом, просто шедевром!
— Я этого не говорил. Нужно следить за своими словами. Вы на нее нападали, а я — защищал.
— Вам следовало бы стать адвокатом.
— Когда я был молодым, в Каире я начал учиться праву… но не смог продолжать учебу…
Она обняла мою маму, протянула для поцелуя руку отцу.
Они проводили ее в прихожую, где слуги открыли перед ней двери. Она хотела было уже переступить через порог, но, помедлив, повернулась и сказала:
— Константин Александрович, если вам удастся как следует подготовить защиту, то в результате все мы полюбим Александру Федоровну!
Мой отец не часто вспоминал о России, России своего детства, с ее чисто азиатской роскошью и повседневным, несколько архаичным образом жизни. Но он проявлял громадное почтение к последним самодержцам, которым он всегда служил верой и правдой с большим усердием. Каким счастливым он был, когда к нему приходил какой-нибудь соотечественник, укрывшийся в Париже, и они с ним подолгу, часами, разговаривали об «их стране», о тех незабываемых деньках, которые навсегда канули в прошлое. В такое время нам обычно запрещали им мешать. Когда бы в доме не появлялся такой визитер, после их разговора на стол обязательно ставили еще один прибор.
Так, день за днем я с удивлением и восторгом узнавала состояние этих горемык, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, на грани нищеты, одолеваемых множеством проблем, среди которых самыми главными были плохое состояние здоровья, поиск средств существования и чувство чужака. Они затемняли все прочее.
Там, на нашей улице Дарю, я смешивалась с этой толпой на тротуарах, на мостовой, перед русской церковью, и в ней узнавала многих друзей моего отца, его родственников, его «протеже». Они скапливались группками во дворе, вели между собой беседы на языке, который я до конца не понимала, ибо едва знала его, и от этого успокаивалось мое сердце. Старые женщины в скромной одежде получали почтенные знаки внимания от мужчин такого же, как и они, возраста, таких чопорных, в потертых пальто, — они срывали с головы старый котелок зеленоватого цвета или шапочку.
Голубизна церковных куполов, холодная луна на небе, холодная, по-сибирски, ночь, вызывали во мне своеобразные чувства. Мне казалось, что эти люди помогают мне возродить в воображении святую Русь; эти люди, хотя и побежденные внешней стороной жизни в своем большинстве, все же сохраняли свою свежую жестокую чувственность. Несчастная, трогательная любовь к прошлому освещала их, как освещают свечи, горящие перед иконами; в их глазах, казалось, поблескивали всполохи могучих струй Невы-реки, проходили чередой омертвевшие дворцы, где больше не было ни роскошных празднеств, ни мятежей, а также дивные украшения монастырей, вольные степи, мрачные крепости, высокие горы с белыми снежными шапками, в них чувствовалась эта вечная потребность в чуде, эта никогда не иссякающая вера в Бога.
Прислушиваясь к их разговорам, к их молитвам, я чувствовала запах ладана, а в их спорах на стародавний манер проявлялась их несгибаемая верность своим корням. История Александры Федоровны, этой носительницы покаяния, прибывшей в эту громадную империю, чтобы сгинуть там вместе с ней на кострах ненависти, только раззадоривала мои нежные чувства к ней, усиливала мое детское любопытство, а также дочернюю мою жалость к ней, ибо в молитвах моего отца я постоянно слышала благословенно повторяемые имена, отныне вошедшие в легенду — имена Николая и Александры!