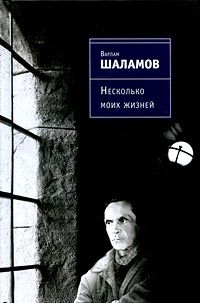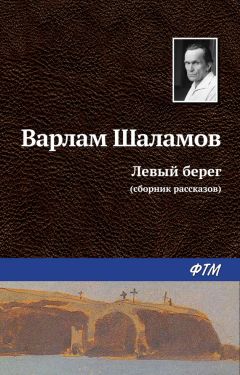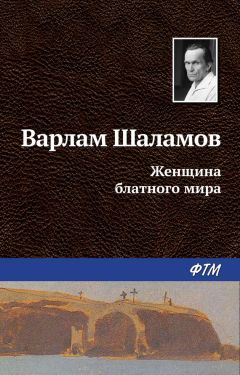Варлам Шаламов - Воспоминания
Никто не мог мне подарить ничего более чудесного, чем мой волшебный ящик, который я тогда вовсе не называл волшебным ящиком, а просто недоумевал, как старшие — родители, родственники, братья, сестры и товарищи по школе — не могут понять простой механики этого превращения — этот театр, который надо было только шептать. Меня не подслушивали и не следили, что мне шепталось.
А шептался просто ход романа в моем пересказе — герои встречались друг с другом, спорили, сражались, искали правду, защищали животных.
Эта игра касалась только романов. Я не играл обертками конфет в нашу семью, в самого себя.
Зачем мне был такой подарок, как берданка?
Я не помню себя неграмотным. Я читаю и пишу печатными буквами с трех лет.
Отец не забыл разговора. 5 июня 1917 года отец мне вручил большую толстую тетрадь в золотом переплете с золотым тиснением — «Дневник Варлама Шаламова».
Подарок был вполне в стиле, в характере, в духе отца.
Немножко «паблисити», немножко уважения к собственному мнению десятилетнего сына (отказ от берданки) — оригинально, можно показать гостям обложку, конечно, самому прочесть запись и заглянуть в душу сыну. Это не какой-нибудь альбом для романсов и мелодекламаций, которыми увлекалась Вологда тех лет. Не мещанство — факты, цифры, сбор документов, умственная тренировка. Словом, отец был доволен своим подарком.
Я же в этом парадном дневнике записал, принуждая себя, пять-шесть страниц. Года за два до этого в общей тетради я уже вел такой дневник — вел и уничтожил, сжег. Мои романы, мои исследования символизма и бессмертия, мои споры с Мережковским были записаны в других тетрадях, неизвестных отцу.
Конечно, несколько страниц я записал — для отца, вклеил несколько газетных вырезок, прокламаций. Написал стихотворение «Пишу дневник», которое было отцом просмотрено весьма неуверенно — он ничего не понимал в стихах.
Но подошел восемнадцатый год, и дневник был забыт, отложен в долгий ящик. Забыт и мной и отцом. Хранился у сестры, конечно, сожжен среди прочих бумаг после моего ареста.
Сколько моих следов в жизни уничтожено огнем — трусливыми руками родственников.
1960-е годы
Двадцатые годы[3]
Заметки студента МГУ
Дорогие юные друзья!
Предлагаемые воспоминания Варлама Тихоновича Шалимова, большого русского поэта и прозаика, моего современника, я прочитал семь лет назад, еще при жизни поэта, и тогда же подумал: как было бы прекрасно, если бы это вы тоже могли прочесть и перенестись в те неповторимые годы. «Заметки студента МГУ», названные В.Т. Шаламовым «Двадцатые годы», — публикация очень актуальная. Вы почувствуете, как мы, тогда молодые, стремились к знанию, общению, как спорили, протестовали, любили, отвергали — в общем, жили! Жили ярко, хотя и испытывали в те годы большие трудности и с одеждой, и с едой, и со всеми мелочами и крупными жестокостями быта.
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде в 1907 году в семье священника, многодетной и дружной, с прочными семейными традициями. На его долю выпало и счастливое время, и горестное, и трагическое. Судьба ни в чем не пощадила этого мужественного человека, но он до конца своих дней оставался именно человеком… Он умер 17 января 1982 года. Прожив жизнь невероятно многострадальную, он оставил документ времени, правды, истории в своих «Колымских рассказах», в биографическом романе «Четвертая Вологда», в стихотворениях «Колымские тетради» и во множестве статей о времени и литературе.
Молодость — это время сближений, время поиска смысла жизни, выбора цели. Но только тот ищет правильно, кто помнит, что цель никогда не оправдывает средства. Мне хочется, чтобы вы не забывали об этом в любых обстоятельствах, берегли добро, правду, природу, историю, честь и честность.
А С. Лихачев, академик
В.Т. Шаламов как личность, как человек сформировался в двадцатые годы. Многих его личных качеств, его мемуаров в публицистике не понять, если не иметь в виду этого обстоятельства. Бурляшей атмосферой двадцатых годов воспитана была его резкость оценок и суждений. В общественных и литературных сражениях тех лет сложилось его кредо — соответствие слова и дела, что и определило в конечном счете его судьбу. К любому человеку, к каждому писателю он тоже подходит с этой простой и высокой меркой — с требованием единства слова и поступков.
Его воспоминания «Двадцатые годы» написаны не искушенным пером литературоведа, это пристрастный рассказ об увлечениях своей студенческой молодости, о поисках истины и своего пути в литературе и в жизни.
Публикатором исправлены некоторые фактические неточности в тексте.
Подлинник рукописи хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства.
И. П. Сиротинская
…Двадцатые годы — это время литературных сражений, поэтических битв на семи московских холмах: в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го МГУ, в клубе Университета, в Колонном зале Дома союзов. Интерес к выступлению поэтов, писателей был неизменно велик. Даже такие клубы, как Госбанковский на Неглинном, собирали на литературные вечера полные залы.
Имажинисты, комфуты, ничевоки, крестьянские поэты; «Кузница», Леф, «Перевал», РАПП, конструктивисты, оригиналисты-фразари и прочие, им же имя легион…
Битвы-диспуты устраивались зимой по крайней мере раз в месяц, а то и чаще.
В Колонном зале, где часто устраивались литературные вечера, никогда не бывало диспутов.
Выступления поэтов, писателей, критиков были двух родов: либо литературные диспуты-поединки, где две группы сражались между собой большим числом ораторов, либо нечто вроде концертов, где читали стихи и прозу представители многих литературных направлений.
Вечера первого рода кончались обычно чтением стихов. Но не всегда. Помнится, на диспуте «Леф или блеф» для чтения стихов не хватило времени — так много было выступавших…
Москва двадцатых годов напоминала огромный университет культуры, да она и была таким университетом.
Диспут «Богема» шел в Политехническом музее. Доклад, большой и добротный, делал Михаил Александрович Рейснер, профессор истории права 1-го МГУ, отец Ларисы Михайловны. Сама Лариса Михайловна в то время уже умерла.
Докладчик рассказывал о французской богеме, о художниках Монмартра, о Рембо и Вердене, о протесте против капиталистического строя. У нас нет социальной почвы для богемы — таков был вывод Рейснера. «Есенинщина» — последняя вспышка затухающего костра.