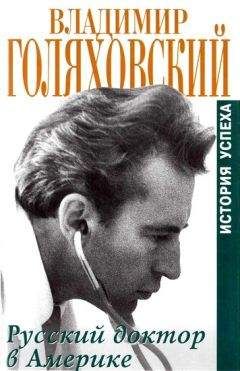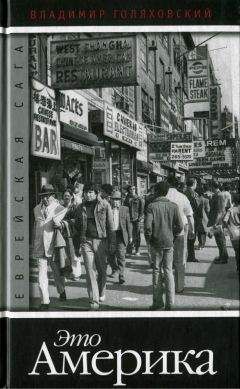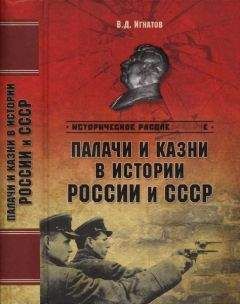Владимир Голяховский - Путь хирурга. Полвека в СССР
Первое привыкание
Московские институты превосходили периферийные во всем, но особенно — своим профессорским составом. Столица долгие годы вбирала в себя всех лучших ученых со всей страны, зачастую сильно обедняя провинцию. Только Ленинград мог соперничать с Москвой. Среди наших профессоров были ученые, знаменитые на весь Союз и на весь мир. И многие другие преподаватели были опытные и интеллигентные люди. То, что называется «столичным блеском», было видно во всем — лекторы часто поражали высоким классом своих лекций, и оборудование для занятий тоже было лучшее для того времени и тех условий, хотя не всегда самое передовое (а что было передовое — мы не знали).
Еще в самом начале нашей учебы мы поняли, что одним из лучших лекторов был профессор кафедры биологии Бляхер — эрудит и интеллектуал, автор учебника, по которому учились студенты всей страны. У него была строго-чопорная наружность — в застегнутом обтягивающем пиджаке, с крахмальным воротничком под подбородок, в пенсне, он выглядел, как интеллигент начала века. И лекции он читал строго-чопорно, суховато. Но зато это был каскад интересных сведений, с яркими примерами и тонкими сравнениями. От него мы впервые услышали, что хороший врач любой лечебной профессии должен уметь мыслить биологически, — это даст нам кругозор в понимании болезней. Меня эта мысль поразила, я запомнил ее на всю жизнь и всегда ей следовал.
Другой блестящий лектор был профессор кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Геселевич, тоже автор самого популярного учебника. Хотя его предмет был относительно скучный и отвлеченный от практики, но его лекции были всегда очень живые, насыщенные мыслями и остроумными комментариями. Он оживлял аудиторию примерами и рассказами и сам много смеялся. К нему на лекцию ходили не только слушать, но и посмотреть на него, особенно — влюбленные студентки. Геселевич, около пятидесяти лет, выглядел моложаво — с небольшой бородкой-эспаньолкой французского типа, стройный, подвижный, держался всегда очень прямо, двигался свободно и сверкал лучезарными карими глазами. На войне он был полковником и до сих пор носил элегантно сшитую форму с погонами, а на груди сверкал орден Ленина — высшая награда, которую редко давали врачам.
Но самым знаменитым ученым был почетный академик Гамалея, прямой ученик великого Луи Пастера — французского создателя науки бактериологии. Гамалея учился у него во Франции еще в XIX веке и сам сделал много открытий. Теперь ему было восемьдесят девять лет, он был слишком стар и слаб и редко появлялся в институте. Один раз его привезли на защиту какой-то диссертации. Он сидел и дремал, не проявляя интереса. Диссертантка, молодая женщина, не знала, кто он такой и что сидит в зале, но сослалась на его труд, написанный еще в прошлом, XIX веке, такой фразой:
— Еще покойная Гамалея писала…
Все вздрогнули, посмотрев на него, он сидел спокойно и дремал, а под конец сказал:
— Ну, что я уже не мужчина, я согласен, и меня можно называть с женским окончанием слов, но почему же — «покойная»?
Это потом стало ходячим анекдотом.
Вторым знаменитым ученым была профессор физиологии Лина Соломоновна Штерн — единственная женщина — член Академии наук СССР и еще и Академии медицинских наук.
Она была известна во всем мире открытием «гемато-энцефалического барьера» (особого строения сосудистой системы мозга). И еще все знали, что она была приятельницей самого Ленина. Она до революции жила и работала в Швейцарии. Там в начале века познакомилась с Лениным во время его европейской иммиграции, они подружились, и она прониклась его идеями. После революции ее пригласили переехать в Москву, она согласилась. Штерн тоже была уже стара и редко появлялась в институте, но мне и Борису из моей группы довелось беседовать с ней. Она зашла в лабораторию, где мы делали опыты на лягушках, и заговорила с нами. Робея, мы все-таки задали ей вопрос о физиологических переменах в людях разных эпох. Как ни велика была дистанция в наших с ней положениях и возрасте, она говорила с нами серьезно, добавляя к речи интересные обороты и даже пикантные остроты.
Еще один великий ученый был академик Давыдовский, один из основателей морфологии — науки о строении тканей. Это был эрудит редкостно большого масштаба, автор лучших книг и учебников. Когда он всходил на кафедру, то казалось, будто над его высоким голым черепом светился нимб святой чистоты науки. А когда он говорил, то каждое его слово было истиной науки. Мы, свежие юнцы, всего этого еще не могли понять и оценить, но по примеру старших благоговели перед этими профессорами.
От старшекурсников мы знали, что есть несколько известных профессоров-клиницистов: Гельштейн, Зеленин, Гринштейн, Этингер. Пока мы могли только предвкушать, как в будущем станем учиться у этих корифеев.
Но даже и в Москве в те годы было мало учебников, а купить их — почти невозможно.
В институтской библиотеке выдавали одну книгу по каждому предмету на двух-трех студентов. Мы группировались и стояли в длинных очередях на их получение. Некоторые старшекурсники давали или продавали нам свои старые учебники. Но им они тоже были нужны — для справок.
И вот мы уже зубрили латынь и на занятиях по анатомии вскрывали трупы. В большой секционный зал с десятью столами для вскрытия трупов набивалось более ста студентов. Привыкать к мертвецам и к голым телам многим молодым было нелегко. Недостатка в трупах не было — в те голодные годы от истощения и инфекций умирало много людей, немало кончали жизнь самоубийством, да и лечить болезни зачастую было нечем — антибиотики еще не получили распространение. По разным причинам родственники хоронили не всех умерших. В каменных ваннах подвала анатомического корпуса плавали в формалиновом растворе сотни истощенных трупов, им не хватало мест, и между ваннами на полу их сваливали десятками, так что приходилось буквально перешагивать через них. В растворе они не гнили, не коченели и не пахли трупной вонью, зато от них исходил густой формалиновый запах. Трупы хранили там месяцами, пока студенты на занятиях не рассекут все их ткани до основания. Мы должны были сами приносить их на носилках из подвала в секционный зал. Девушки боялись туда спускаться, да и носить трупы по лестнице им было тяжело. Это приходилось делать молодым мужчинам. Некоторые даже бравировали этим. Борис всегда вызывался идти в подвал первым, я шел за ним. Однажды он сыграл со мной грубую шутку: когда я вошел в комнату с трупами, он снаружи захлопнул металлическую дверь и погасил свет, — я остался в темноте один на один с десятками покойников. Но Борис сам за меня испугался, быстро включил свет и открыл дверь.