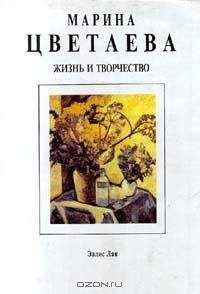Виктория Швейцер - Марина Цветаева
«Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений...» – писал Мандельштам. Нет пустоты в повести цветаевского детства, она облекла его в фабулу, создала прекрасную легенду о своей семье и главной героиней сделала мать.
Обращали ли вы внимание, что в рассказах любой женщины ее мать предстает обязательно – красавицей? Любой – но не Цветаевой. Она ни разу не описала внешности матери. Какое ей дело до внешности, когда она чувствовала, знала, что ее мать – существо необыкновенное, ни на кого не похожее? Правда, и сравнивать было особенно не с кем, семья Цветаевых жила сравнительно уединенно. Разве что с героинями романтических баллад и романов, в мир которых мать ввела ее очень рано. На них она и была похожа. Цветаева видит свою мать романтической героиней. Это она создала в семье атмосферу напряженно-возвышенную и бескомпромиссную. В ее безмерном увлечении музыкой, литературой, живописью, а потом и медициной чувствовалась неудовлетворенность. Чем? Почему? Дети не могли этого понять, скорее всего и не задумывались над этим, но в «разливах» материнского рояля, под звуки которого они ежевечерне засыпали, слышалась тоска по какой-то другой, несостоявшейся жизни. Она стремилась свои неосуществленные мечты передать детям, внушить, заклясть – чтобы они воплотили. Она была уверена, что настанет время, когда они поймут и оценят. И не ошиблась. Все это было не просто – высокий лад требовал напряжения. Но даже материнская строгость и требовательность воспринимались как должное – другой матери Цветаева не могла бы себе представить. Разве другая прочла бы с ними столько замечательных книг, рассказала столько необыкновенных историй, подарила бы им такую прекрасную музыку? Марина чувствовала, что в душе матери живет какая-то тайна. В двадцать один год она писала о ней философу В. В. Розанову: «Ее измученная душа живет в нас, – только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумье, ее жажда дошли в нас до крика».
Отец казался незаметен и как будто не принимал участия в их жизни. Рядом с ним постоянно звучало не очень понятное детям слово «музей», которое они воспринимали иногда как имя или звание человека. И. В. Цветаев записал в дневнике весной 1898 года, когда в доме было особенно много посетителей по делам музея: «...детвора, заслышав звонок, кричала на весь дом: „папа, мама, няня – еще Музей идет...“»[3] Отец был не просто занят хлопотами по созданию первого в России музея классической скульптуры, но целиком погружен в это дело, ставшее смыслом его жизни. Его мир был детям недоступен и далек. Однако отцовская преданность идее, пример его неустанного трудолюбия не прошли для Марины даром, стали частью ее характера. В раннем стихотворении Цветаевой «Скучные игры» игра «в папу» изображена так:
Не поднимаясь со стула
Долго я в книгу глядела...
Отец был добр, мягок, он сглаживал и уравновешивал страстную нетерпимость матери. Однако само его спокойствие и отрешенность от домашних дел отдаляли Ивана Владимировича от жизни детей... Он казался обыкновенным и его отсутствие незаметным. В. В. Розанов, бывший в свое время студентом профессора Цветаева, в некрологе писал о его внешней заурядности: «...Иван Владимирович Цветаев ... казалось, олицетворял собою русскую пассивность, русскую медленность, русскую неподвижность. Он вечно „тащился“ и никогда не „шел“. „Этот мешок можно унести или перевезти, но он сам никуда не пойдет и никуда не уедет“. Так думалось, глядя на его одутловатое с небольшой русой бородой лицо, на всю фигуру его „мешочком“, – и всю эту беспримерную тусклость, серость и неясность».
Не правда ли, слишком «объективное» —особенно для некролога – описание? Конечно, дети не воспринимали отца так, но то, что он «не от мира сего» (во всяком случае, не от их с матерью мира), они не могли не чувствовать.
Мать безусловно его затмевала. Ее картинами были увешаны стены, ее музыка, ее бурный темперамент, ее блеск были наглядны и восхищали. А что привлекательного для детей в отцовской сдержанности и тихости? Однако, характеризуя своего бывшего профессора, Розанов не остановился на только внешнем описании. Он продолжил: «"Но, – говорит Платон в конце „Пира“ об особых греческих „тайниках-шкафах“ в виде фавна: – подойди к этому некрасивому и даже безобразному фавну и раскрой его: ты увидишь, что он наполнен драгоценными камнями, золотыми изящными предметами и всяким блеском и красотою". Таков был и безвидный неповоротливый профессор Московского университета, который, совершенно обратно своей наружности, являл внутри себя неутомимую деятельность, несокрушимую энергию и настойчивость, необозримые знания самого трудного и утонченного характера»[4]. Эти скрытые отцовские богатства не прошли для Марины впустую, вошли в ее натуру. Но лишь спустя жизнь пришло осознание «тихого героизма», скрывавшегося за внешней обыденностью отца. Сейчас же, в детстве, отец был старым и скучным, мать – молодой и необыкновенной. Их тянуло к матери. К тому же мать естественно ближе к детям, ведь главная часть жизни отца проходила вне дома, – и они чувствовали, что настроение в доме зависит от нее.
Где-то на втором плане детского сознания возникает дедушка, даже два: свой собственный, «папаша» матери Александр Данилович Мейн с женой, которую мать почему-то называет «Тетя», и «дедушка Иловайский»: он приходит один и почему-то дедушка только старшим – сестре Валерии и брату Андрею. «Свой» дедушка добрый, он привозит подарки всем детям и иногда катает их на собственных лошадях. Дедушка Иловайский подарков не приносит и, кажется, вообще ничего не замечает вокруг, во всяком случае, никогда не отличает Аси от Марины, хотя они совсем непохожи. Почему дедушек два и они такие разные? Почему у матери висит портрет их бабушки, ее матери – не Тети и совсем молодой, а в зале – портрет матери Валерии и Андрея? В еще большей глубине живет совсем странное слово «мамака» – чья-то прабабка? румынка? – она умерла в Марининой комнате. От нее в наследство Валерии остались какие-то «блонды», и она умела плясать «барыню». Кто все эти люди? Как они связаны между собой? Что было до меня, Марины, в нашем доме?
Постепенно, из случайно услышанных слов, из недомолвок, по вещам, делившимся на «наше» и «иловайское», Валерино, начинала представляться история дома, семьи. Раньше, давно, у отца была другая жена – молодая, красивая, прекрасная певица – кажется, она даже выступала на сцене? – мать Валерии и Андрея. Потом она умерла, совсем молодой, как и мать нашей матери, чей портрет в гостиной, – вот почему у нас не бабушка, а Тетя. Лёре было восемь лет, а Андрюша только что родился. И тогда наша мать вышла замуж за отца: молодая, необыкновенная – за немолодого и самого обычного профессора. Душа матери жаждала подвига, и она искала его в жертве ради чужих детей... Потом родились мы – Марина и Ася.