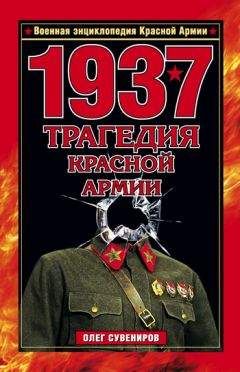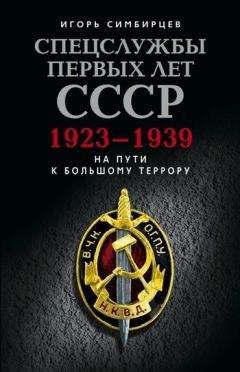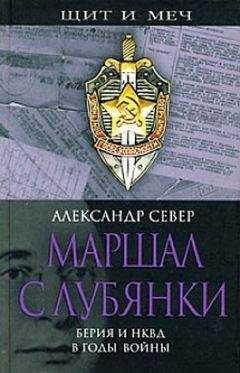Лубянская империя НКВД. 1937–1939 - Жуковский Владимир Семенович
Система привилегий злокачественна вовсе не потому, что она фиксирует материальное неравенство. Последнее неотъемлемо существует в любом обществе. Привилегии же создают государство в государстве, в котором (первом) не существует квартирного вопроса, всепроникающего дефицита, наличествуют «запретные зоны» (это для дачного отдыха), спец-распределители, спецполиклиники, бронируются билеты (от театральных до железнодорожных) и прочее, и прочее. В результате граждане, обитающие за пределами номенклатурного круга, ощущают себя людьми второго сорта.
Что касается зарплаты, то еще в начале тридцатых годов она была достаточно скромная, существовал так называемый партмаксимум. Однако уже в 35-м году, когда учительница прямо в классе спрашивала ребят о жалованье родителей, я мог с гордостью ответить: «Тысяча триста рублей», — немалая сумма, которую из других родителей получал лишь отец Воронцова — старый специалист, инженер.
И все же тогда жили и были скромнее. Собственных дач и автомобилей не имел почти никто. Пьянство было не в почете. Одевались скромно, ценных украшений женщины не носили, даже маникюр среди коммунисток был редкостью.
Осталась в памяти характерная черта, отчетливо выступавшая в разговорах советских сановников. Черта эта — не иметь своего мнения, отличного от того, которое высказано «наверху». Вряд ли это можно назвать обычным угодничеством.
Просто считалось само собой разумеющимся, что по любому вопросу может существовать единственное, «правильное», мнение и что безошибочно утверждать это мнение дано только вождю. «За нас фюрер думает», — звучит несколько примитивно, но к месту.
Я сейчас имею в виду не только различные опубликованные решения и постановления, немедленно становившиеся обязательными. Нет, но любое слово, сказанное «Хозяином», пусть по какому-либо частному поводу, быстро становилось достоянием круга избранных, которые после этого мыслили и, во всяком случае, говорили в точном соответствии.
— Тише едешь — дальше будешь, — произнес я как-то в разговоре со взрослыми известную пословицу.
— Эта пословица неправильная, — тут же было сказано мне. Нетрудно понять, отчего получила санкцию критика стародавнего изречения; ведь пример относится ко времени «пятилеток в четыре года».
Ильф и Петров в своей «Одноэтажной Америке», 1936, описали впечатления о Соединенных Штатах, где они побывали. Реакцию печати на эту достаточно идеологичную книгу я не помню, зато удержался в памяти случайно услышанный диалог двух ответработников:
— Что слышно по поводу «Одноэтажной Америки»?
— Говорят, не совсем…
— ?
— Там слишком восхваляется американский сервис.
Возразить вроде «а мне понравилось» — выпадало из стиля.
Вспоминая знакомых отца, вовсе не могу я подумать о них, как о безликих или серых. В большинстве своем это были люди умные, способные, деятельные. Могли помочь угодившему в беду. Надо еще иметь в виду, что эти товарищи не прошли, наподобие нынешних чиновников, выварки с младенческих лет в нашем советском котле, они встретили семнадцатый год уже взрослыми. Однако обстановка в середине тридцатых годов сложилась такая, что высказывать собственное мнение, проявлять себя как личность становилось опасным, а потому в этих сферах как бы неприличным.
Конечно, такая духовная унификация отнюдь не каждым воспринималась естественно или даже с охотой. Отец, например, обладал чувством юмора, любил остроумный анекдот, мог пошутить и сам. Однажды, в приливе хорошего настроения и будучи наедине со мной, он не удержался и смешно произнес имя и фамилию основоположника научного коммунизма, переставив начальные звуки этих слов. Но тут же попросил: «Ты только никому не говори».
В другой раз предметом шутки послужила эмблема МОПРа; отец просунул руку с белым (носовым) платком сквозь волейбольную сетку. На указанной эмблеме платок должен быть красным, а решетка — тюремная.
Разумеется, в присутствии сына отцу приходилось иногда вспоминать о роли воспитателя. Так, передают по радио песню Листова «Тачанка», которую исполняет Утесов со своим джазом.
— Ну что это, вот «Гоп со смыком…», — следует моя реплика.
В ответ получаю назидание:
— Хорошо, что после всяких «Гоп со смыком» Утесов начал петь такие вещи, как «Тачанка».
Бывает трудно, даже невозможно, провести грань между тем, когда человек играет роль, хорошо в нее вжившись, или говорит и действует искренне. И по отношению к отцу я тоже не могу сказать, чтобы в домашней обстановке он делился такими мыслями, которые скрывал бы на людях. Просто его натуре были чужды напыщенность, риторика, казенный оптимизм, но он и не прибегал ко всему этому, насколько мне известно, ни дома, ни вне. Отец знал активную натуру матери, ее способность резко выступить, бессознательное, возможно, стремление быть на первом плане. При очередной встрече рассказываю, что мать выбрали в партбюро. Дословно реакции бывшего мужа не помню, но смысл был таков: «Опять! Почему бы маме не вести себя потише, не выделяться…»
Наш дом
Шести- (с улицы — пяти) — этажный дом, куда мы вселились, вернувшись из Германии, построили в 1914 году, и предназначался он для небедных жильцов. Так, наша квартира, которую до революции будто бы занимал фабрикант средней руки, состояла из 5-ти комнат общей площадью 150 кв. м, не считая расположенной при двадцатиметровой кухне светелки для прислуги. Потолки, разумеется, высокие — 3,7 метра.
Отопление дровяное. Чудесные голландские печи, до потолка, с белыми изразцами. Обе наши комнаты обогревались одним таким сооружением, и только в самые трескучие морозы топили ежедневно, а так — через день. Очень понимаешь Булгакова, для которого, судя по описанию киевской квартиры Турбиных, голландская печка — неотъемлемая принадлежность воспоминаний о далеких годах детства и молодости.
Дрова хранились в подвале, разгороженном на боксы — по числу-квартир. Квартира имеет два выхода: «парадный» и на «черный ход», т. е. на другую лестничную клетку. Эта лестница выходила на изолированный участок двора, который, собственно, мы чаще всего и называли черным ходом. Туда глядят окна всех кухонь и прикухонных светелок, а также некоторых комнат. Таких черных ходов в доме два, симметрично расположенных. Один из них высокой стеной отгорожен от двора дома Советов. Второй черный ход граничит с территорией, примыкающей к улице Герцена (Большой Никитской), где сейчас размещаются подстанция метро и сквер. Некогда была там церковь, которой я не помню.
Однако оставалась кирпичная стена и в одну линию с ней — небольшое здание. Сквозь низкие зарешеченные окна виднелись сидевшие за рядами столов женщины. С утра до вечера при электрическом освещении они стегали одеяла. Ни разу не довелось заметить, чтобы кто-нибудь из них не только глянул в окно, но хотя бы перемолвился словом с соседкой или даже просто улыбнулся. То были — во всяком случае ребята в этом не сомневались — монашки.
В мое время черная лестница использовалась, чтобы выносить мусор, носить дрова из подвала, а также сообщаться с чердаком. Замыслом строителей доставлять дрова или иную громоздкую поклажу собственными силами не предполагалось, так как на черном ходу имелся большой грузовой лифт. Возможно, я еще застал его работающим, но продолжалось это недолго. Что касается просторного чердака, то там сушили белье. До поры до времени, конечно, пока не начали его красть.
В подъездах стояли трюмо. Наш экземпляр спокойно и просто стащили уже после войны. Подъехала грузовая машина, зеркало погрузили и увезли. На глазах у публики, которой это было, как иногда выражаются, до лампочки.
Плохо, когда нет хозяина.
Командовал, правда, у нас одно время управдом с подходящими данными. Низенький, кривоногий, злой, но дело знал. Не пил, с персоналом не фамильярничал, его хоть и не любили, зато боялись. Побаивалась управдома и дворовая мелюзга, которая в отместку приклеила ему прозвище «сыч».