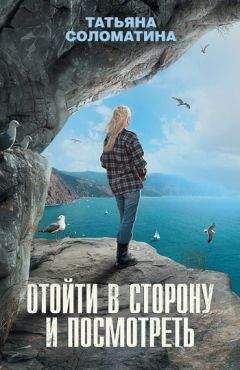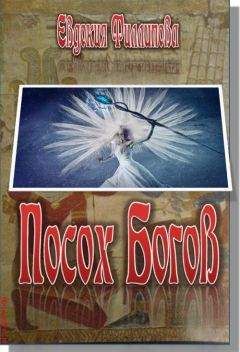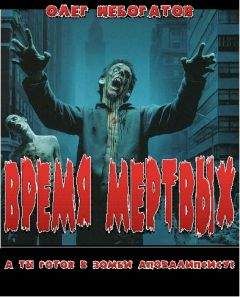Владимир Набоков - Другие берега
Кроме всего я наделен в редкой мере так называемой audition coloree — цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только несколькими словами о русском алфавите: латинский был мною разобран в английском оригинале этой книги.
Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается по-моему осязательным, губным, чуть ли не вкусовым чутьем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор.
Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.
Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я, В белесой группе буквы Л, Н, О, X, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.
Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Е, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым 3. Такова моя азбучная радуга (ВЕЕПСКЗ).
Исповедь синэстета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков — и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее, как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, — но концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших-оголение всех нервов и даже понос.
Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвету! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины, ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты!
Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую груду драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек — сапфировых, изумрудных, рубиновых, — глухо горели над отороченными снегом карнизами домов.
2
Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти что ли лет, я был отягощен исключительными, и даже чудовищными, способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангинах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Неосторожный гувернер поторопился объяснить мне-в восемь лет-логарифмы, а в одном из детских моих английских журналов мне попалась статейка про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (кажется, 212, но это неважно). От этих монстров, откормленных на моем бреду и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь мои смещенные логикой жара слова она узнавала все то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютонову классическому образцу.
Будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился, при передаче литературному герою (в моем романе «Дар»), случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным вы-здоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен). Я различал все: гнедого рысака, его храп, ритмический щелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке: они показывали двадцать минут третьего. Мать в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.
Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня.
Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного (еще не спустили штор) прошлого.
Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой, удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было, или не совсем можно было, за деньги купить (приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину: надобно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства». «О, еще бы, — говаривала мать, когда бывало я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением, — еще бы, это я хорошо знаю…». И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного» (le deja vu). Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе, это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего.