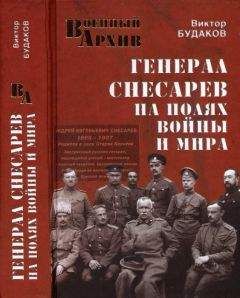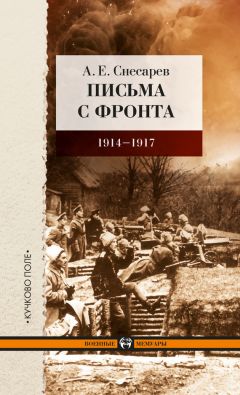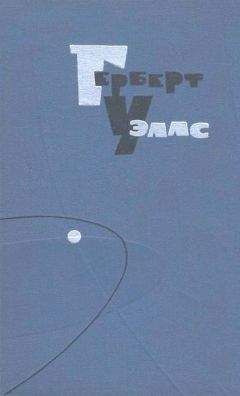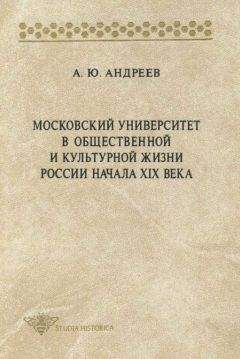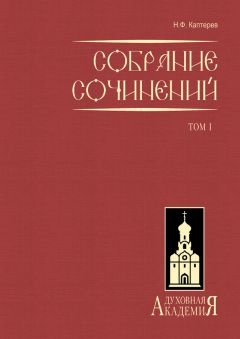Михаил Басханов - «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904.
Мобилизационное расписание Туркестанского военного округа предусматривало также ведение боевых действий на ряде второстепенных театров – в Персии (Тегеранское направление), Северо-Индийском (Пенджабское направление), в Западном Китае (Ферганско-Кашгарское и Джунгаро-Семиреченское направления). Изучение Северо-индийского театра займет важное место в деятельности А. Е. Снесарева в туркестанский период, о чем будет подробнее сказано ниже.
В начале XX в. Ташкент предствлял собой один из центров русского военного востоковедения. Работа по изучению сопредельных с округом стран Востока – Персии, Афганистана, Индии и Китая велась преимущественно офицерами Генерального штаба. В это время в Туркестане служили такие известные исследователи Востока, как М. В. Грулев, А. Г. Серебренников, Н. С. Лыкошин, Л. Г. Корнилов, А. Д. Шеманский, И. Д. Ягелло, И. К. Серебренников, В. Ф. Новицкий, И. Т. Пославский и многие другие. При штабе Туркестанского военного округа действовала Ташкентская офицерская школа восточных языков[19]. В школе готовили военных востоковедов со знанием языка индустани (урду). В более позднее время в программе школы язык урду был дополнен персидским, тюркским, китайским и английским языками. Ташкентская офицерская школа восточных языков являлась единственным военно-востоковедным учебным заведением в русской армии, где читался курс разведки. Туркестанскими военными востоковедами ежегодно совершались рекогносцировки по Туркестанскогому краю, поездки по сопредельным странам, издавались солидные военно-географические и военно-статистические работы, труды по лингвистике и этнологии. Они активно сотрудничали с общероссийской и туркестанской прессой, публиковались в изданиях военного ведомства. Немало офицеров состояло действительными членами туркестанских научных обществ: Туркестанского отдела ИРГО, Туркестанского кружка любителей археологии и Туркестанского отдела Общества востоковедения.
Таким образом, к моменту приезда А. Е. Снесарева в Ташкент, там уже имелись все необходимые условия для его последующего становления как крупного военного востоковеда. Этому во многом способствовала и атмосфера тех дней в среде туркестанских офицеров Генерального штаба, обусловленная их повседневной деятельностью, – служба на границах Империи, рекогносцировки и поездки по странам Востока, изучение восточных языков, литературная и научная деятельность. Здесь также важно отметить, что в Ташкенте Снесарев оказался в среде офицеров Генерального штаба, которые имели солидные познания Востока и значительный опыт службы на туркестанской окраине. Некоторые офицеры, как например, Генерального штаба подполковники М. В. Грулев, П. А. Кузнецов и А. Д. Шеманский, капитан Д. Н. Логофет уже приобрели известность своими военно-географическими и военно-востоковедными работами. Д. Н. Логофет был достаточно известен своими статьями о «военной жизни азиатских окраин» (по выражению А. И. Деникина)[20]. Это была достаточно конкурентная среда, она создавала для Снесарева не только систему ориентиров, но и вовлекала его в обстановку творческого соревнования, способствовала возникновению у него желания также сделать себе имя на ниве научной деятельности. Вся последующая деятельность А. Е. Снесарева в Туркестане – это непрерывный процесс работы над собой, самосовершенствования и самообразования, желания самоутвердиться и сделать себе громкое имя. Служба Снесарева как офицера Генерального штаба с первых дней оказалась неразрывно связана с Индией, и таким l’objet de charme она осталась для него на всю последующую жизнь.
В гостях у лорда Керзона: Снесарев в Индии
О поездке в Индию А. Е. Снесарев никогда не помышлял и попал в эту страну, как и на службу в Туркестанский край, совершенно случайно. Это событие имело свою предысторию. В ноябре 1898 г. британский посол в Петербурге обратился в Министерство иностранных дел России с просьбой разрешить двум офицерам индо-британских войск – майору Медли (Major E. J. Medley) и капитану Кенниону (Captain Kennion), в начале 1899 г. проехать из Северной Индии в Россию через территорию Памира[21]. Военный министр генерал-лейтенант А. Н. Куропаткин удовлетворил просьбу посла, но при этом высказал условие, чтобы правительство Великобритании дало разрешение русским офицерам проехать через Памир в Индию по четырем разным направлениям с целью ознакомиться с Северо-Западной пограничной провинцией[22]. Ответным письмом британский посол уведомил, что правительство дало согласие на поездку русских офицеров только через пер. Калик в Хунзу и Нагар и далее через Кашмир в Индию. В феврале-марте 1899 г. посол Великобритании в Петербурге обратился с новым ходатайством о разрешении еще двум офицерам – подполковникам Поуэллу (Lieut.-Col. Powell) и Мак-Суини (Lieut.-Col. McSwiney)[23], совершить путешествие по русским среднеазиатским владениям, причем, для последнего испрашивалось согласие на осмотр Кушкинской ветви Среднеазиатской железной дороги и на поездку из Чарджуя вверх по р. Амударье.
Начальник Главного штаба генерал-лейтенант В. В. Сахаров в отношении на имя военного министра указывал в этой связи: «<…> английское правительство, заручившись нашим условным согласием, в свою очередь довело численность своих офицеров-путешественников до четырех, предварив этою мерою сообщение нам своего уклончивого ответа. К тому же, сузив для нас район разведки всего лишь до одного направления и притом наименее для нас интересного, английское правительство намечает для своих рекогносцеров относительно весьма широкую полосу с включением железнодорожной ветви Мерв-Кушка и верхнего течения Амударьи. Будучи стеснены ответом английского правительства в выборе направления, нам, по-видимому, неизбежно ограничиться отправлением только одного офицера (состоящего для поручений при командующем войсками Туркестанского военного округа подполковника Кузнецова)»[24].
Военный министр в резолюции на документе указал: «Памирское направление для нас совершенно не интересно. Тем не менее, и им воспользоваться надо. Двух английских офицеров мы можем пустить тоже только через Памиры[25]. Через Кушку мы отнюдь не можем никого пропустить. Почему мы выдумали четыре направления через Памиры? Чем руководствовались? Можно ограничиться посылкою двух офицеров вместе, например, Кузнецова и Корнилова. Куропаткин. 25/IV»[26].
В секретном письме к министру иностранных дел графу М. Н. Муравьеву военный министр уведомил, что разрешением британского правительства проехать в Индию воспользуются только два офицера – подполковник Кузнецов и капитан Корнилов[27]. Таким образом, изначально к командировке в Индию предназначались два перспективных офицера Генерального штаба, проходивших службу в Туркестанском военном округе, – П. А. Кузнецов и Л. Г. Корнилов. Первый был хорошо знаком с Памиром – совершил там несколько важных рекогносцировок, второй – провел тайную рекогносцировку Афганского Туркестана.
В середине мая 1899 г. министр иностранных дел уведомил А. Н. Куропаткина, что маркиз Солсбери, премьер-министр Великобритании, довел до русского политического агента по азиатским делам в Лондоне П. М. Лессара ноту, в которой просил сообщить точные сроки приезда русских офицеров к пер. Калик с тем, чтобы выслать для их встречи офицера индо-британской армии. В резолюции на письмо министра иностранных дел А. Н. Куропаткин отметил: «Надо спешить с депешами, выяснить срок проезда, определить денежные средства и спросить Высочайшего соизволения. Куропаткин. 18/5»[28].
5 июня 1899 г. из Ташкента на имя начальника Главного штаба пришла шифрованная телеграмма за подписью начальника штаба Туркестанского военного округа: «Офицеров, предложенных военным министром, командующий войсками затрудняется командировать по незнанию ими ни европейских, ни туземных языков населения Индии, почему просит назначить подполковника Полозова и одного офицера Генерального штаба из Петербурга, причем, желательно, чтобы этот впоследствии был переведен на службу в Туркестан»[29].
Заметим, что доводы командующего войсками очень похожи на уловку с целью не отправлять Кузнецова и Корнилова, ценных и необходимых в округе офицеров, в командировку, польза которой для нужд округа представлялась С. М. Духовскому сомнительной. В пользу этой версии говорит и тот факт, что французским языком Кузнецов и Корнилов владели достаточно свободно. Незнание «туземных языков населения Индии» не помешает Корнилову совершить поездку по Индии в 1903–1904 гг. В действительности, Духовской придержал офицеров в округе в связи с тем, что у подполковника Кузнецова подходило старшинство в следующем чине (полковника) и при этом открывалась вакансия командира 5-го Оренбургского казачьего полка, дислоцированного в Ташкенте и составлявшего личный резерв командующего на случай чрезвычайных ситуаций. На этой должности Духовской хотел иметь офицера-туркестанца, опытного и лично ему знакомого. Корнилов рассматривался командующим как наиболее подходящая кандидатура для назначения на вновь учреждаемую должность офицера Генерального штаба при Российском Императорском Генеральном консульстве в Кашгаре. Должность вводилась в связи с обострением «сарыкольского вопроса» и усилением британских интриг в Кашгаре.