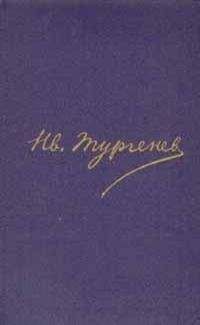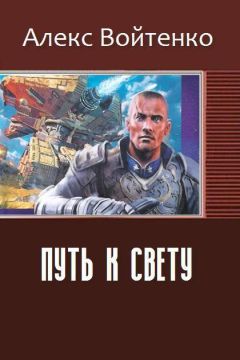Герберт Уэллс - Опыт автобиографии
«Займись этим, Уэллс», «Уэллс, вперед», «Кто-нибудь видел Уэллса?», «Зовут!», «Но вы не показали леди крашеного льна по шесть шиллингов три пенса! Молодой человек ошибся, мадам, у нас есть как раз то, что вам требуется», «То, что ты упаковал, развалится, прежде чем это донесут до дому». И у меня в ушах все громче и отчетливей звучал голос, подобный голосу Господа, повелевающего одному из своих пророков: «Брось ты это дело, пока не поздно! Любой ценой выбирайся отсюда!»
Какое-то время я никому не говорил о том, как жаждал вырваться на волю. Затем я попробовал поделиться этой идеей с моим братом Фрэнком, который был устроен на относительно приличной работе в Годалминге и даже жил не при хозяине, а снимал комнату. Я ездил к нему на Пасху и на Троицу, чтобы встряхнуться на праздники. «Но чем же еще ты можешь заняться?» — удивился он. Младший кассир в нашем магазине, по имени Уэст, получил некоторое образование и мечтал стать священником; он одобрял, что вечерами я урываю время для латыни. С ним я тоже поговорил. Я надеялся получить какой-нибудь совет. В конце концов меня осенила мысль написать мистеру Хоресу Байету в Мидхерст. Существуют ли в его школе младшие учителя? И не могу ли я быть ему полезен в этом качестве?
Он ответил, что, как ему кажется, от меня будет польза.
Но я был нанят на четыре года, а еще не отслужил и двух. Моя мать должна была заплатить за мое обучение пятьдесят фунтов и успела уже внести сорок. Она переполошилась, узнав, что я опять, видимо, остаюсь без работы. Она плакала, умоляла меня «еще постараться» — Фредди ведь старается. Мне бы помолиться хорошенько, и Господь придет на помощь. Я объяснил, что в такого рода помощи не нуждаюсь. Просто я понял, что, пойдя в суконщики, очутился в ловушке и намерен из нее выбраться. Был призван отец, и поначалу он меня поддержал, а затем выступил против моего освобождения.
Но Байет готов был меня принять. Это и решило дело. Мой бунт получил реальное подкрепление. Мне предлагалось стать ассистентом-практикантом в грамматической школе; сперва Байет намеревался оставить меня совсем без жалованья, но затем решил назначить мне двадцать фунтов годовых, а через год увеличить эту сумму до сорока. Он верил в мою способность зарабатывать для него деньги, я оправдал его надежды сверх всяких ожиданий, и это прямо-таки воодушевило его.
Наступил решительный поворот в моей жизни; перед этим я был в полном отчаянье, связанный по рукам и ногам как договором, так и материнскими упреками. Я чувствовал себя загнанным кроликом, который вот-вот обернется и начнет кусаться. Загнанный кролик, который вдруг оборачивается и кусает, неизбежно должен удивить охотников и даже обратить их в бегство. Я открыл два принципа, которым оставался верен на протяжении нескольких лет. Первый: «Если тебе чего-то очень хочется, постарайся добиться этого, и к черту последствия». Второй: «Если ты недоволен своей жизнью, измени ее; не надо жить без надежды, ибо худшее, что может с тобой случиться, если только ты будешь биться до конца, это поражение, но поражение определяется лишь в финале, а финал — это смерть, и лишь она будет для тебя последней точкой».
В эти мрачные два года я, среди прочего, немало думал о главных жизненных принципах. Я взвешивал возможности того или иного исхода, и когда пригрозил самоубийством, чтобы поколебать намеренье матери воспрепятствовать моему освобождению, то лишь в результате долгих размышлений на берегу моря в Саутси и на набережной Портсмута. Я не считал, что самоубийство — это достойный выход из положения, но оно казалось мне все же меньшим злом, нежели примирение с жизнью. Холодное объятие быстротекущей темной глубокой воды в теплую летнюю ночь представлялось мне предпочтительней, чем перспектива бродить по улицам в поисках работы на исходе надежды. Но это, во всяком случае, от меня не уйдет. А иначе зачем изводиться, чтобы продлить свое существование? Если жизнь не хороша, зачем жить?
Возможно, я формулировал это не столь решительно в те годы и не с такой определенностью, но мысль моя тогда развивалась в этом направлении, во всяком случае, я начинал об этом подумывать.
Не могу сейчас восстановить в должном порядке этапы своего освобождения; не помню точно и того, когда я написал Байету. Но ход событий ускорился благодаря какой-то ссоре, подробности которой я начисто позабыл. Случилось, что я проявил неповиновение, намеренно ослушался приказа. Надвигалась беда. Дело выходило за рамки компетенции Джей-Кея и должно было быть рассмотрено самолично Джи-Ви. Так или иначе, в одно утро я встал пораньше и, отмахав на голодный желудок семнадцать миль до Ап-парка, объявил матери, что больше терпеть не намерен и с мануфактурным делом покончено. Я думаю, бедняжка тогда только поняла всю силу переживаемого мною кризиса.
В «Тоно Бенге» я рассказал, как все это в точности выглядело и как я подстерег процессию слуг, поднимавшихся на Хартинг-Хилл по дороге из хартингской церкви. Я выскочил из буковых и папоротниковых зарослей на дорогу. «Ку-ку, мамочка!» — воскликнул я, бледный, усталый, стараясь обратить все в шутку.
Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит!
Я вспоминаю, какую я еще сумел, среди прочего, проявить неблагодарность. Когда под конец дело с моим договором было улажено, мистер Хайд вспомнил, что на носу летняя распродажа, когда от любого человека, даже неквалифицированного, есть польза. Может быть, я хоть на это время останусь? Но я неспособен был еще месяц провести в магазине — целых четыре недели! И наотрез отказался. Я и слышать об этом не захотел. До моей поездки в Мидхерст оставался целый месяц, каникулы кончались только в сентябре, но я уже предвкушал месяц запойного чтения. Я чувствовал, что уже на два года отстал от детей, учившихся в привилегированных школах. А я не желал от них отставать.
В моей памяти не угасает воспоминание о том, как я ехал в Мидхерст один в купе на перегоне от Портсмута до Питерсфилда, где предстояла пересадка. Мой неизменный чемоданчик стоял на сиденье передо мной. Мне не сиделось на месте, я пытался читать, но меня все носило от одного окошка к другому, и я вдруг почувствовал настоятельную необходимость выразить переполнявшие меня чувства в какой-то дикой пляске и в песне, полной непочтения к Мануфактурному центру в Саутси и в особенности к Джей-Кею (еще раз хочу повторить, что центр этот был из числа лучших, содержался в отличном состоянии, а Джей-Кей был превосходным человеком). Но эта песня и этот танец, под стук колес, к сожалению, теперь забылись.
Нам не страшен старый Джей, старый Джей, старый Джей!
Чертов парень был таков, был таков, был таков,
Чертов парень был таков, был таков, да, да!
Что-то в этом роде.