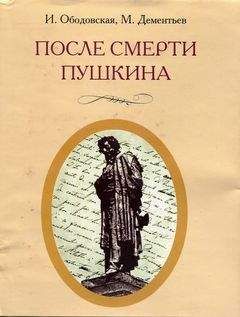Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [Только текст]
После гибели Пушкина портрет Жуковского перешел к князю Вяземскому.
Самому Жуковскому достался перстень с сердоликом, некогда подаренный графиней Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой сосланному в Одессу Поэту. Кольцо с бирюзой досталось Константину Данза-су, о чем поведала В. А. Нащокина:
«Незадолго до смерти поэта мой муж заказал сделать два одинаковых колечка с бирюзовыми камешками. Из них одно он подарил Пушкину, другое носил сам, как талисман, предохраняющий от насильственной смерти. Взамен этого поэт обещал мне прислать браслет с бирюзой, который я и получила уже после его смерти при письме Натальи Николаевны, где она объясняла, как беспокоился ее муж о том, чтобы этот подарок был вручен мне как можно скорее. Когда Пушкин после роковой дуэли лежал на смертном одре и к нему пришел его секундант Данзас, то больной просил его подать ему какую-то небольшую шкатулочку (ту самую, что досталась потом Россету. — Авт.). Из нее он вынул бирюзовое колечко и, передавая его Дан-засу, сказал:
— Возьми и носи это кольцо. Мне его подарил наш общий друг, Нащокин. Это — талисман от насильственной смерти.
Впоследствии Данзас в большом горе рассказывал мне, что он много лет не расставался с этим кольцом, но один раз в Петербурге, в сильнейший мороз, расплачиваясь с извозчиком на улице, он, снимая перчатку с руки, обронил это кольцо в сугроб. Как ни искал его Данзас, совместно с извозчиком и дворником, найти не мог»{257}.
Согласно воспоминаниям Константина Карловича, этого кольца не было на руке Пушкина во время дуэли.
Василий Андреевич Жуковский как член Опекунского совета и доверенное лицо Натальи Николаевны, один из наиболее близких семье Пушкиных людей, после ее отъезда и с ее ведома, распорядился частью вещей Александра Сергеевича, подарив их на память друзьям, а остальные домашние вещи и библиотеку Поэта по решению Совета сдали на хранение в кладовые Гостиного двора.
В день отъезда Наталья Николаевна перепоручила погашение многочисленных долгов покойного мужа членам Опеки. В частности, там было означено: «Камердинеру Павлу остался муж должен сто рублей. Наталья Пушкина», а также: «За уплатою осталось на 1-е февраля тысячу четырнадцать рублей. Наталья Пушкина. 16 февраля 1837».
Вдова знала, что в трудный час ей есть на кого положиться, ибо многие из окружавших ее людей были не только друзьями покойного, но в какой-то степени и родней.
Так, В. А. Жуковский и Е. И. Загряжская были восприемниками при крещении младшего сына Пушкина — Григория, а старшего, Александра, крестили ближайший друг Поэта П. В. Нащокин и тетушка Загряжская. Дочь Машеньку — крестили С. Л. Пушкин и все та же тетушка. Граф Михаил Виельгорский и Екатерина Ивановна Загряжская 27 июня 1836 года в церкви Рождества Св. Иоанна Предтечи (что на Каменном острове Петербурга) были восприемниками на крестинах младшей дочери Поэта — Натальи.
Ближайший круг людей, родные, друзья… Во всем их участливая рука.
Несомненно, особое место занимала неутомимая тетушка Екатерина Ивановна, одинокая, не имевшая собственной семьи, по сути, бывшая всем детям Пушкина не только крестной матерью, но и бабушкой. И потому, несмотря на свой почтенный возраст, она отправилась в такую дальнюю дорогу сопровождать и помочь сберечь детей «Ташеньки» в ее тяжкую годину.
В условиях суровой северной зимы, сквозь февральскую стужу довезти через сотни верст в Калужскую губернию четверых малолетних детей живыми — вот основная задача Натальи Николаевны-матери.
Думается, что отец Поэта, Сергей Львович, сам утративший пятерых из восьми своих детей еще младенцами, вряд ли имел основания обижаться на невестку за то, что, проезжая через Москву, она не заехала к нему повидаться.
Но впоследствии стало ясно, что обида имела место и голоса, осуждавшие вдову, он все-таки слышал. Наверное, это была горечь пожилого человека, которого обошли вниманием близкие люди, когда ему было особенно больно от постигшей его утраты.
16 февраля 1837 года
Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская, урожденная Карамзина, в письме, адресованном сестре мужа, а вскоре — жене Ивана Гончарова, княжне Марии Ивановне Мещерской, сообщала, что Натали Пушкина «сегодня» уезжает из Петербурга:
«…Мы были так жестоко потрясены кровавым событием, положившим конец славному поприщу Пушкина, что дней десять или две недели буквально не могли опомниться… Во все время роковой дуэли и до последнего вздоха он вел себя геройски по свидетельству самого француза, бывшего секундантом Дантеса и который, рассказывая про это дело, говорил: „Один Пушкин был на этой дуэли изумительно высок, он выказал нечеловеческое спокойствие и мужество“. Когда его привезли домой умирающим, он ни на минуту не усомнился в неминуемости близкой смерти и посреди самых ужасных физических страданий, Пушкин думал только о жене и о том, что она должна была чувствовать по его вине. В каждом промежутке между приступами мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее неповинною в своей смерти и что никогда ни на минуту не лишал ее своего доверия и любви. <…> Я все это время была каждый день у жены покойного, во-первых, потому, что мне было отрадно приносить эту дань памяти Пушкина, а во-вторых, потому что печальная судьба этой молодой женщины в полной мере заслуживает участия. Собственно говоря, она виновна только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина; теперь, когда несчастье раскрыло ей глаза, она вполне все это чувствует и совесть иногда страшно ее мучит. Дай бог, чтобы нынешние страдания послужили для души ее источником возрождения и искупительною жертвой. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако ж, из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам…»{258}.
Старший брат Екатерины Мещерской, Андрей Карамзин, писал родным из Парижа:
«16 февраля 1837 года.
Как я вам благодарен, милая и добрая маменька, и тебе, моя милая Софи, за письмо, полученное сегодня. Я очень желал, но не смел надеяться получить его, потому что это более, нежели сколько было обещано. Но вы знали, что, отчужденный от родины пространством, я не чужд ее печалям и радостям и что с тех пор, как роковое известие достигло меня и русскую братию в Париже, наши сердца и взоры с тоскою устремились на великого покойника, и мы жадно ожидали подробностей. Если что может здесь утешить друга отечества и друга Пушкина, так это всеобщее сочувствие, возбужденное его смертию: оно тронуло и обрадовало меня до слез! Не все же у нас умерло, не все же холодно и бесчувственно! Есть струны, звучные даже и в петербургском народе! Милые, добрые мои сограждане, как я люблю вас! Но с другой стороны то, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостиной аристократии (черт знает, как эту сволочь назвать), меня нимало не удивило; оно выдержало свой характер: убийца бранит свою жертву, — это должно быть так, это в порядке вещей. Что Дантес находит защитников, по-моему, это справедливо; я первый с чистой совестью и с слезою в глазах о Пушкине протяну ему руку: он вел себя честным и благородным человеком — по крайней мере, так мне кажется, но то, что Пушкин находит ожесточенных обвинителей… негодяи!.. Быстро переменялись чувства в душе моей при чтении вашего письма, желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь впускали по билетам только высшее общество, знать. Ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал ей? С тех пор, как он попал в ее тлетворную атмосферу, его гению стало душно, он замолк… отвергнутый и неоцененный, он прозябал на этой бесплодной, неблагодарной почве и пал жертвой злословия и клеветы. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше! <…>
![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст]](/uploads/posts/books/45806/45806.jpg)
![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/35159/35159.jpg)