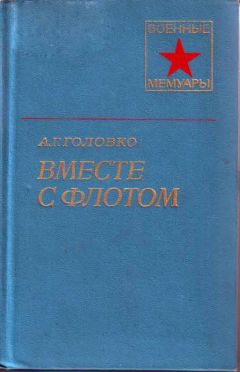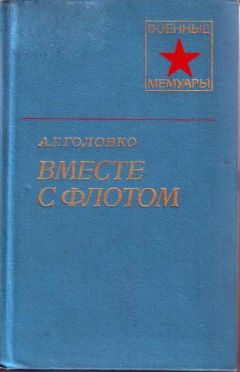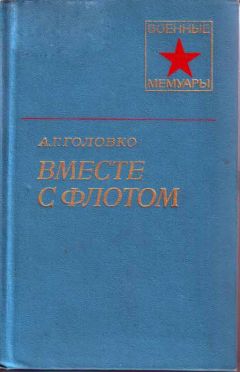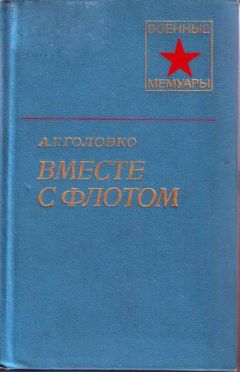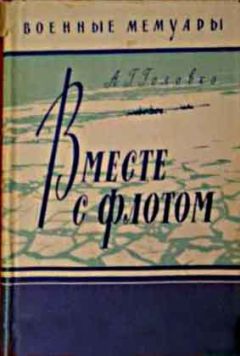Виктория Балашова - Шекспир
— Эх, не нравится мне твое настроение! Нельзя так зависеть от женщины, — Джеймс вздохнул, — ты же знаешь, что твоя связь с Элизабет рано или поздно закончится.
— Вот поэтому у меня и такое настроение. Тем более она все время говорит о том, как виновата перед мужем, встречаясь со мной. То есть, когда он не сидел в Тауэре, ее вина не была так велика. А сейчас, когда он там, она стала гораздо больше.
— Элизабет отчасти права. Она развлекается в то время, когда он страдает. Уильям, ты устраиваешь себе пьесу в жизни. На самом деле все проще. Не надо усложнять то, что таким сложным не является. Это не спектакль.
— Ошибаешься, спектакль был раньше. Игра закончилась. Когда Генри мне говорил, что выиграет тот, кого выберет Элизабет, тогда мы играли. А она спокойно порхала от одного к другому. В итоге никто из нас не выиграл.
— Звучит банально, но никто и не проиграл. Ваша дуэль не закончилась. Она лишь отложена на время.
Иногда он не выдерживал и начинал такой же разговор с самой Элизабет.
— Ты любишь Генри? — спрашивал Уильям.
— Зачем тебе знать? — вопросом на вопрос отвечала она. — Я ведь с тобой. Разве тебе этого мало?
— Мало, — кивал он и прижимал Элизабет к себе еще сильнее.
О болезни королевы все же Уильям не мог не думать. Несмотря на свои безразличные ответы Джеймсу по этому поводу, он вспоминал Елизавету часто. Ему было искренне жаль, что она умирает, будто в тот единственный раз, когда они виделись, их успели связать невидимые узы. Ее стихи он давно запомнил наизусть. Он словно сроднился с ними и искренне переживал за их судьбу.
Уильям понимал, что, когда королева умрет, он сможет спокойно напечатать сонеты. Но ему не хотелось этого делать. Почему-то и его и ее стихи теперь слились воедино. Она не хотела, чтобы о ее любви слышали все вокруг, и ему не хотелось того же. Уильям не мог даже представить, что когда-то читал эти сонеты вслух другим людям, такими личными они теперь ему казались.
Долгими одинокими вечерами он сидел в своей комнате и ждал. Ждал ее стука в дверь, быстрых шагов по лестнице. Предсказать момент появления Элизабет в его доме было невозможно. Поэтому Уильям бежал домой из театра, каждый день, ожидая, что увидит на столе записку или саму Элизабет. Разочарование бывало особенно велико, когда, указав в письме, что придет, она в итоге не приходила.
— Ты же понимаешь, — объясняла Элизабет потом, — у меня двое детей и жизнь, которую я не могу полностью подчинить своим интересам. За мной следят, каждый шаг под наблюдением сотен глаз. Я очень рискую, приходя к тебе. Иногда думаю, что смогу прийти, а после понимаю, что из дома сегодня не выйти.
Уильям слушал ее, и слова пролетали мимо, ничего не означая, не успокаивая, не принося необходимого спокойствия его душе. Порой она приходила, и тут же после свидания ему становилось еще хуже, чем до него. Вместо радости он испытывал боль и грусть, не имея никаких сил сдвинуться с места, не имея желания писать, общаться с друзьями, гулять по городу.
Но однажды он все-таки пошел бродить по улицам бездумно и бесцельно, пытаясь выбить шагами из души тревогу и постоянные мысли об Элизабет. Недалеко от аббатства Уильям увидел художника, разложившего вокруг свои картины. Уильям остановился. Что-то заставляло смотреть на изображенные лица. Они не были красивы и утонченны, но в их облике была та самая, столь знакомая ему боль. Их лица не озаряли улыбки, глаза оставались печальными. Весь облик этих людей был овеян одиночеством, несмотря на явное присутствие рисовавшего их человека.
— Как вы это делаете? — спросил Уильям художника, показывая на картины.
Тот пожал плечами и проговорил усталым голосом много повидавшего человека:
— Я вижу в людях то, чего они порой и сами в себе не видят. Им не всегда нравятся их портреты, поверьте. Кто ж хочет смотреть себе в душу?
— А если наоборот? Если я хочу перестать смотреть себе в душу?
— Тогда начните смотреть в чужие. Как я. В такие моменты забываешь про свою.
Уильям присел рядом с художником:
— Раньше мне было интересно смотреть в чужие души. Я писатель. Точнее, драматург. Но наступило время, когда для меня это перестало быть интересным. Другие люди превратились в актеров, играющих свои роли. Ничего нового. Постоянный повтор одних и тех же сюжетов.
— Ваша жизнь разве разнообразнее? — уточнил художник. — Боюсь, что нет. Вам лишь кажется, что вы наполнены эмоциями и чувствами, которых другим не понять. На деле вы так же примитивно устроены, как и все остальные. Извините.
— Ничего. Быть может, вы правы. Я слишком много думаю о себе. Но это не значит, что моя жизнь интереснее.
— Искусство всегда гораздо более многообразно, чем жизнь конкретного человека. Если вы возьметесь описать то, что с вами происходит в пьесе, кому это будет интересно? Спектакль провалится. Если я буду рисовать самого себя, то, сколько портретов заинтересует окружающих? От силы один-единственный. Если композитор будет писать музыку, которая звучит в его душе, то сколько он напишет опер? Если актер будет изображать на сцене то, что он на самом деле чувствует, то сколько ролей он сможет сыграть? Нет, искусство предлагает нам гораздо больше возможностей, гораздо больше вариантов развития событий, чем мы можем пережить.
— То есть забыть о себе, о том, что мне лично хочется сейчас сказать?
— Да, именно так. Искусство более масштабно. Ваш маленький мир занимает лишь ничтожную часть того, что может выразить художник. Если поэт будет писать для одной женщины, много ли стихотворений он напишет?
— Около тридцати, — честно ответил Уильям.
— Для всей жизни маловато. Чтобы написать больше, надо писать о вымышленных женщинах, о тех, которых не любил, но которые пригрезились в воображении. Описывать надо идеал.
— Женщина, которую я люблю, идеальна.
— Так не бывает. Реальная женщина никогда не может быть идеальна. Вы любите образ, созданный вашим воображением. Так создайте другие образы. Пусть их будет много. И в этой одной возлюбленной старайтесь видеть все, что рождает фантазия.
— Спасибо, — Уильям встал и еще раз посмотрел на портреты, — у вас их покупают?
— Не очень. Людям нравится смотреть на счастливые лица.
— Я куплю вот этот портрет, — Уильям полез в кошель за деньгами, — красивая, необычная женщина и кого-то мне напоминает.
— Это королева Елизавета в двадцать пять лет. Год ее восшествия на престол. Мне тогда было двадцать, и я видел, как она ехала к Тауэру через весь город. На ее лице отражались и страх, и гордость, и ум, и смятение. А еще она была влюблена. Такое необычное сочетание.