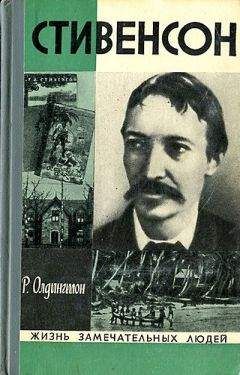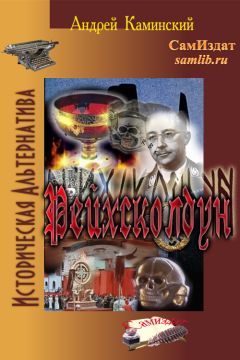Ричард Олдингтон - Стивенсон. Портрет бунтаря
«Все они, до единого, интересовались лишь отдельными фактами и стремились к сведениям ради самих сведений, — правда, люди всех классов проявляют подобный аппетит, когда ежедневно поглощают в огромном количестве всевозможную газетную болтовню… Они не видели связей между явлениями, но хватались за так называемую причину и считали вопрос решенным. Например, источником всех зол в Англии, по их мнению, было правительство, а следовательно, лекарством от них должен быть правительственный переворот… Они и слышать не хотят о том, что им самим надо исправиться, но желают, чтобы весь мир изменился в одно мгновение, и они смогли бы, оставаясь по-прежнему ленивыми, расточительными и распущенными, пользоваться жизненными благами и уважением, которые должны служить наградой за противоположные качества…»
Это лишь немногие примеры наблюдений, запечатленных в «Эмигранте-любителе». Некоторые из них, без сомнения, менее разительны сейчас, чем в то время, когда Стивенсон их делал, другие наводят такую же грусть, как пророчества Кассандры, когда наступает наконец время их свершения.
Тому, кто интересуется, как развивались мысль, мастерство и характер Стивенсона, книгу эту стоит внимательно прочитать от начала до конца. Человека, видевшего все то, о чем говорится в «Эмигранте-любителе», и сумевшего так рассказать об этом, нельзя обвинить в поверхностном знании жизни, как и в том, что он только и способен писать детские книжки или, пусть даже прекрасные по стилю, очерки и путевые заметки. Конечно, могут сказать, что его друзья из третьего класса знали, что он джентльмен, и намеренно или ненамеренно «выставлялись» перед ним. Однако Стивенсон решительно отрицает это. Ни пассажиры, ни команда, ни офицеры не отличались проницательностью лондонской или эдинбургской полиции и скорей напоминали полицейского комиссара из Шийона и французских хозяек гостиниц, принимавших его и сэра Уолтера за бродячих торговцев. Матросы называли его «приятель», офицеры — «милейший», а пассажиры-эмигранты считали его кем угодно — от каменотеса до инженера-практика. Так что познания, приобретенные им на корабле, не были искажены ложными отношениями, которые неизбежны при контакте различных классов. И вот именно за те черты, которые являются достоинствами этой книги, так называемые друзья невзлюбили ее и помешали Стивенсону ее напечатать. Чем, кроме снобизма, можно это объяснить? Быть принятым за бродячего торговца в глухой французской деревушке не страшно, это сочли забавной шуткой, к тому же Луис был в компании баронета, но благовоспитанная публика 80-х годов прошлого века, возможно, решила бы, что в «мистере Стивенсоне есть что-то не совсем симпатичное», раз на него глядят как на равного всякие, по его же словам, лентяи, пьяницы и бездельники. Вряд ли в ее глазах это делало ему честь. То, что он прилежно писал каждый день в каюте, выполняя дневной урок, его попутчики, как истые бритты, не ставили ни во что, считая это чепухой, для подобных людей нет смешнее занятия, чем «царапать пером». Добросердечный казначей корабля даже предложил Стивенсону переписать список пассажиров, сказав, что «ему за это заплатят».
Одно дело читать обо всем этом в книге, другое — испытывать на самом деле, и мы вполне можем попять, что первым желанием Стивенсона в Нью-Йорке после того, как он нашел номер в дешевой гостинице, было как следует пообедать, чтобы вознаградить себя за скудный корабельный стол. Ему бы следовало отдохнуть хоть неделю, прежде чем ехать дальше в Калифорнию. К несчастью, у него уже был заказан билет на поезд, отправлявшийся в понедельник вечером (а прибыл он в Нью-Йорк в воскресенье днем), и, к еще большему несчастью, он провел весь понедельник на улице под проливным дождем, так как ему нужно было побывать в самых разных местах, начиная с банков и кончая книгопродавцами. Он так промок, что оставил в номере брюки, носки и туфли, поскольку их невозможно было положить в чемодан. Мы вновь сталкиваемся с непрактичностью Стивенсона, — зная, как у него мало денег, и не представляя, когда она еще их раздобудет, Роберт Луис обедает в дорогом французском ресторане и выбрасывает сырую одежду (в точности, как в Севеннах, где он выкинул баранью ногу и целый хлеб). Настоящая богема не может позволить себе такую роскошь… В довершение всего ему пришлось проделать утомительную, хотя и недолгую, поездку, опять-таки под дождем, в Джерси-сити, откуда отходил поезд, так что, когда он сел в вагон, он опять был весь мокрый. И к тому же он узнал, что у Фэнни воспаление мозга.
Как ни странно, «Через прерии» — менее интересная книга, чем «Эмнгрант-любитель». Произошло это, конечно, вовсе не потому, что Стивенсон, уподобившись среднему англичанину, смотрел на Америку сверху вниз. Напротив, он сам говорил, что «Америка была для меня своего рода обетованной землей», но представление его о ней скорее напоминало мираж, а не реальную картину, поскольку составлялось оно на основании книг об Америке, прочитанных в детстве, и самой американской литературы. «Листья травы» Уитмена и «Уолден» Торо — великолепные книги, типично американские по своему духу; но разве такие типично английские книги, как «Записки Пикквикского клуба» Диккенса и стихотворения Теннисона, могли служить надежными путеводителями по Англии 1879 года? В рассказе об Америке у Стивенсона звучат нотки разочарования; не то чтобы он ее недооценил, но она «не выполнила» того, что обещала. Так образованный американец, высадившись в том же 1879 году в Ливерпуле, мог бы огорчиться, не встретив на улицах добродушных джентльменов, вроде мистера Пиквика, забавных малых вроде Сэма или благородных витий вроде тогдашнего поэта-лауреата Теннисона. К тому же Стивенсон пустился в путь усталым, в «страшно подавленном настроении», а бесконечное путешествие вымотало его еще больше. Правда, ему удалось избежать самого худшего — необходимости спать сидя, так как он взял напрокат несколько досок — их перекидывали с сиденья на сиденье — и подушку, но он не мог раздеться, ему редко удавалось умыться, и в составе не было вагона-ресторана.
«Я могу без преувеличения сказать, что никогда в жизни не чувствовал себя таким зверски усталым, как в ту ночь в Чикаго». А от Чикаго до Сан-Франциско еще очень долгий путь, особенно в поезде для эмигрантов. К тому времени, когда поезд добрался до Лароми (штат Вайоминг), Стивенсон был по-настоящему болен и более чем ошеломлен бессердечием, иначе не назовешь, американских переселенцев — в поезде почти не было эмигрантов из Европы. Его лицо, перекошенное болью, вызывало у них дружный смех, а когда позднее у другого пассажира начался эпилептический припадок, одна из женщин не нашла ничего лучшего, чем сказать; «Надеюсь, он не умрет! Мало приятного ехать в одном вагоне с покойником!» Стивенсону не было «предначертано» досадить этой леди и превратиться в столь нежелательного для нее соседа, но он был близок к этому. В письме, посланном с дороги Хенли, он говорит: