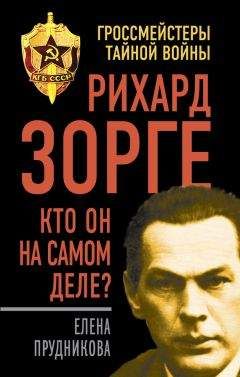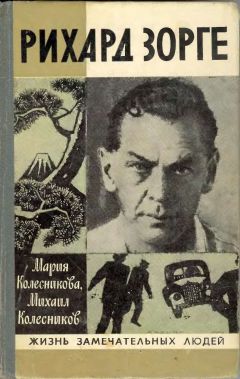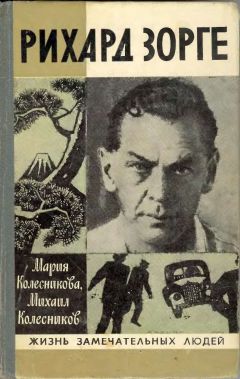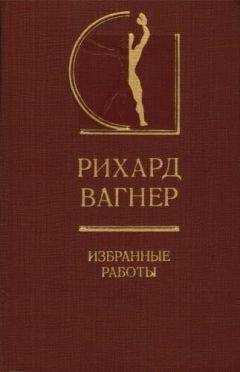Роксана Сац - Путь к себе. О маме Наталии Сац, любви, исканиях, театре
— А сколько ты окончила классов?
— Восемь, — не моргнув глазом ответила я и меня тут же зачислили в 9-ый.
Война согнала с насиженных мест не только знаменитых артистов, но и учителей: географию преподавала украинка, физику интеллигентнейший Александр Константинович из Ленинграда, а литературу Антонина Георгиевна Кордзинашвили из Тбилиси. Колоритнейшая дама! В класс не входила — влетала в каком-нибудь ярком — пусть штопаном-перештопанном, но сохраняющем следы былой экстравагантности одеянии с неизменной шалью через плечо, скрепленной с облезлой горжеткой из чернобурки, при этом большая ее часть, включая лисью морду, волочилась за ней по полу, как шлейф за королевой.
На ее уроках я почти сразу выбилась в корифеи. Правда, началось со скандала. «Антонина» — в разговорах между собой мы не утруждали себя отчеством — заставляла нас вести конспекты ее «лекций» и по ним отвечать. Но лекции эти были просто более кратким изложением учебника, и я приспособилась подчеркивать то, что она говорила. Заметив, что я не пишу, она спросила, почему, я объяснила свою «методику», чем привела ее в негодование. Желая как следует проучить, она поставила меня перед классом и стала распекать, обвиняя в зазнайстве и невежестве.
— Уверена, что ты даже назвать не можешь ни одного поэта, а смеешь своевольничать…
— Почему, могу. Пожалуйста — Пушкин, Лермонтов, Блок…
— Блок? Ты что же, читала Блока? — негодование сменилось удивлением.
— Читала.
— Ах, дети, как я люблю стихи Александра Блока: «В голубой далекой спаленьке…» — начала она и чуть запнулась.
— «Твой ребенок опочил», — подсказала я и продолжила: «Тихо вылез карлик маленький».
— «И часы остановил», — подхватила она.
Я покорила сердце Антонины Георгиевны.
— «Сацик», — т ак она меня стала называть, — может не писать моих лекций, но вы все обязаны, потому что вы невежды и неучи.
Особое отношение ко мне Антонины Георгиевны сохранилось до конца школы. Когда ее уроки посещал какой-нибудь «представитель» или комиссия, она всегда вызывала меня и к месту, и не к месту заставляла читать Блока. Антонина, кстати, буквально спасла меня на выпускных экзаменах по геометрии. Я запуталась в доказательствах и, как ни билась, не могла свести концы с концами. От отчаянья стала нести какую-то математическую ахинею, но при этом непрестанно меняя интонацию. Антонина, которая была членом комиссии (в математике она, естественно, ничего не понимала), услышав мои фиоритуры, тут же пришла в восторг. «Вы только послушайте, как Сацик теорему доказывает, — воскликнула она. — Словно стихи читает» — и все, действительно, сосредоточились на том КАК, а не ЧТО я говорю — и единодушно оценили мои знания высшим баллом.
Но вернемся в сентябрь 44-го…
Как после долгой зимней спячки, природа весной бурлит кипением жизни, так мне после всего минувшего было мало учиться в 9 классе, бывать на киносъемках, спектаклях, концертах. В то время я еще очень увлеклась альпинизмом. Сначала это произошло благодаря Гале Можаевой, новой школьной подруге. Ее отец год назад вернулся с фронта. Врачи «комиссовали его по чистой» ввиду целого букета болезней, из которого язва желудка, туберкулез легких, почечная недостаточность были еще не худшими, и прямо заявили его жене, что больше месяца он не протянет. Но вместо того, чтобы, лежа в постели, терпеливо ждать конца, он уехал в горы, стал там строить дом и разводить пчел.
Скоро слава о его меде разнеслась по округе, и колхоз-гигант «Алма-атинский» предложил ему должность главного пчеловода, выделив пару крепких лошадей, чтобы он мог объезжать дальние пасеки. Мы с Галкой нередко сопровождали его в этих поездках, и я не переставала удивляться его неутомимости. Худощавый, жилистый, с выцветшими прозрачно-голубыми глазами, он был очень молчалив и очень добр. Он уже давно забыл про врачей и болезни, а о вкусе и целебных свойствах его меда можно было писать поэмы: много лет спустя обосновавшийся в Казахстане брат Адька привозил мне от него баночки солнечно-желтого благоухающего горного меда, излечивающего от простуды, порезов, ожогов, словом, от всевозможных хворей и болезней.
Первое, чем он поразил мое (и по-моему, мамино) вооображение был чемодан с фотографиями и сырами. Сыры были американские, плавленые, присылаемые американцами взамен открытия второго фронта, фотографии женские — память о влюбленных и покоренных. Сыры были очень вкусные, женщины на фотографиях в основном бальзаковского возраста и сверхзаурядной внешности. Особенно «хороша» была одна с «баба-ягинским носом и подбородком». «Тетя Лошадь» прозвали мы ее. Но у этой «тети», оказывается, был муж генерал. И как же козырял этим генералом Дима (кстати, судя по его рассказам, он был с ним в прекрасных отношениях), повествуя о своих амурных победах. Стремясь во что бы то ни стало выделиться, отличиться, возвыситься, а главное, показать маме, каким сокровищем она обладает, Дима готов был на все.
Еще в Москве маме говорили об Алма-Ате, как городе ленивом, сонном и абсолютно нетеатральном. Таково было первое впечатление и об артистах казахской оперной труппы. Плоские лица, немигающие, ничего не выражающие глаза, небрежно-высокомерные позы, — такими предстали они на первой репетиции «Чио-чио-сан». За внешней ледяной непроницаемостью угадывалось: зачем и кому понадобилась эта режиссерша, вчерашняя зека. Встанем, как всегда, напротив дирижера и споем, тем более в зале, как всегда, никого не будет. Я не была и не могла быть на этой репетиции и не могу воспроизвести, что и как мама на ней делала, но я ее провожала и встречала и видела лица актеров ДО и ПОСЛЕ. Забегая вперед, скажу, что успех «Чио-чио-сан» был не просто огромный — фантастический. Впервые на казахском оперном спектакле был аншлаг. Эйзенштейн, Черкасов, Бирман, Тиссе писали восторженные отзывы о постановке и Куляж Бейсеитовой в заглавной роли, и все время, пока «Чио-чио-сан» была в репертуаре, у кассы толпились желающие заполучить «лишний билетик».
По вечерам мы часто ходили в гости уже не только к московским, но и к казахским артистам и всегда центром общения становилась мама. Дима гордился, но больше завидовал ее успехам и во что бы то ни стало стремился сотворить нечто эдакое, чтобы о нем заговорили. Узнав о моем увлечении горами, он тотчас не преминул сообщить, что является «сыном солнца», покорителем Суфруджу и других горных вершин и что только он может научить меня настоящему альпинизму. Короче говоря, однажды мы отправились в горы вдвоем и не успели сделать двух шагов, как Дима стал вносить коррективы в наш маршрут, что в свою очередь привело к тому, что мы заблудились. Бредем неизвестно куда среди альпийских в рост человека трав, а Дима уже ворчит, что это я его завела и что здесь, наверное, много диких зверей. Он пугливо озирается, я пытаюсь его успокоить.