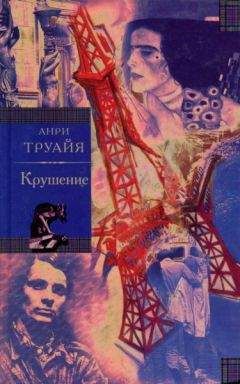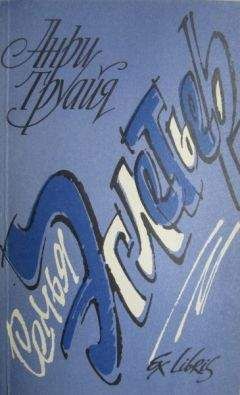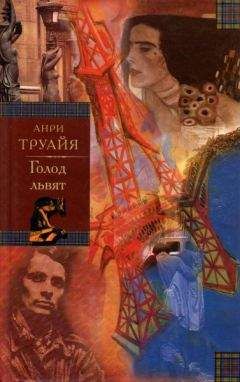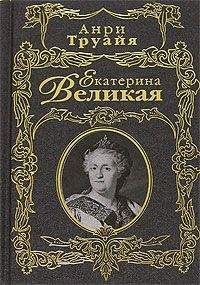Алевтина Кузичева - Чехов. Жизнь «отдельного человека»
Что, допустим, ему мог ответить старший брат на слова из письма зимой 1887 года: «Меня чуть ли не обливают презрением за сотрудничество в „Новом времени“»? Чехов отдавал отчет, что, не будучи сотрудником или членом редакции, он, тем не менее, связал свое имя с газетой Суворина. Влиятельной, тиражной, имеющей огромную аудиторию, но в глазах многих одиозной. Через некоторое время даже в провинциальных газетах стали писать: «Многих смущает то обстоятельство, что г. Чехов пишет в „Новом времени“». Газету порицали за позицию издателя, а также за статьи «нововременцев», особенно В. П. Буренина. Современники прозвали его «литературным капралом», грубым шутом, фигляром, слугой толпы, ждущей скандала, травли, клеветы. В его статьях и пародиях угадывали мстительное чувство неудачника, посредственного литератора, утверждавшегося злобной насмешкой и над талантом, и над бездарностью. Выбрав жертву, он глумился жестоко, будто упивался желчью и ядом своих «шуток». Говорили, что сам Суворин боялся Буренина, зависел от него и не гнал из газеты по бесхарактерности и трусости. Может быть, цинизм и беспощадность «шута» влекли хозяина, тешили нечто темное в его душе.
19 января 1887 года в Ялте умер поэт С. Я. Надсон. В обществе заговорили о том, что в могилу его свела не только чахотка, но и травля Буренина. В газетах возмущались нововременским фельетонистом, обвинявшим умиравшего поэта в притворстве, в вымогательстве денег на лечение якобы выдуманного недуга. Может быть, никто в Москве не бросил Чехову прямого презрительного упрека, но возмущение «Новым временем», конечно, задевало его. Так что же? Уходить опять в «Осколки»? Опять строчить в каждый номер, писать с отвращением, «скверно»? Никто этого не требовал. Никто не покидал газету из-за выходок «хулиганствующего критика».
Что-то остановило Чехова в истории с несчастным поэтом, на смерть которого он отозвался словами: «Надсон — поэт гораздо больший, чем все современные поэты <…>. Из всей молодежи, начавшей писать на моих глазах, только и можно отметить трех: Гаршина, Короленко и Надсона». Дело было в утверждении Буренина, что это он «открыл» Чехова, он указал Суворину на автора «Петербургской газеты». Всесильный «шут» подпускал к трону хозяина только на своем поводке. Он часто предлагал начинающим авторам свое покровительство. Некоторые соглашались. Буренин явно хотел приручить новичка, руководить и направлять, поощрять, а если надо — приструнить, дать острастку.
Чехов, расспрашивая брата о газете, о Суворине, о сотрудниках, просил: «Пиши мне обо всем, потому что мне нужно знать всё». Уходя из-под «длани» Лейкина, он никак не хотел подставлять голову под «милостивую» руку Буренина. И тот это почувствовал, но пока надеялся накинуть узду на внешне спокойного молодого литератора, молчаливого и, кажется, даже покорного. Многих современников обманывала его сдержанность, за которой некоторые видели гордыню и тщеславие. Лазарев, познакомившийся с Чеховым зимой 1887 года, писал своему приятелю Ежову: «Он же ведь горд, самолюбив, ищет славы — что ему „Осколки“. Я думаю, что он скоро станет писать в толстых журналах».
* * *Неглупый собеседник не сразу понял, о чем Чехов толковал ему. А он в это время со всеми говорил о главном: что значит писать «крупное», повесть или даже роман. Об этом он спорил с Виктором Билибиным, который давно уговаривал приняться за «большое». Мол, неясность, незаконченность чеховских рассказов — от стеснительных рамок газеты и надо уходить в толстые журналы. Это сердило Чехова и увеличивало трещину в их отношениях.
Новому знакомому Чехов говорил о том же. Не в размерах дело, а в способах выражения. Свободным можно быть и в небольшом рассказе. В очередном письме Лазарев пересказал услышанное: «Он совершенно справедливо говорит, что это штука нелегкая, нужно работать и работать, и нельзя (т. е. лучше бы делать иначе) черное называть черным — прямо, белое белым — прямо… Он говорит: „Плохо будет, если, описывая лунную ночь, вы напишете: с неба светила (сияла) луна; с неба кротко лился лунный свет и т. д. Плохо, плохо! Но скажите вы, что от предметов ложатся черные резкие тени и что-нибудь подобное, — и дело выиграет в 100 раз… Желая описать бедную девушку, не говорите: по улице шла бедная девушка и т. п., а намекните, что ватерпруф ее был потрепан или рыжеват — и картина выиграет“». Об этом же Чехов писал годом раньше старшему брату.
Чехов уже дал такое «непрямое» описание лунной ночи в рассказе 1886 года «Волк»: «На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло…» И «рыжий ватерпруф» он упомянул («Хорошие люди»). И «черные тени» («Который из трех?»).
Постепенно внимательный собеседник Чехова вник в то, что слышал. И писал теперь Ежову не о «толстых журналах», а о таланте Чехова: «Попробуй написать страницу в подражание Винницкой, Короленко, Боборыкину и т. п. — без сомнения у тебя выйдет удачно. Попробуй написать страницу в подражание Чехову и у тебя (и у меня) ничего не выйдет. Вот ты и толкуй. <…> Как ты не можешь понять, что ничего не может быть выше слога? Гуманные мысли у всякого порядочного писателя есть, да что же из этого?»
Однако и самому Чехову «страница» давалась трудно. В черновике февральского письма Григоровичу осталось признание, не перенесенное в беловик: «О себе могу сказать мало хорошего. Пишу не то, что хочется, а писать, как Вы советовали, не хватает ни энергии, ни уединения… Тем хороших много толчется в голове — и только. <…> Питаюсь пока надеждами на будущее и <…> слежу за тем, как бесплодно ускользает настоящее».
В марте 1887 года вдруг грянула телеграмма от брата Александра, что у него тиф. До этого он уже сообщал родным о болезни Анны Ивановны, отвезенной с тифом в клинику. Он тогда просил мать приехать, чтобы присмотреть за внуками. Но никто из домашних не тронулся из Москвы. И теперь спешно выехал только один человек — Чехов. По собственному выражению, он находился «в самом напряженном состоянии», не скрывал, что панически, еще с отрочества и юности, боялся тифа, а болезнь гуляла по столице.
Остановился он в гостинице. Александр оказался здоров — в очередном запое ему просто вообразилась страшная болезнь. Так что срочная поездка, съевшая последние деньги, получилась напрасной. Выходить из гостиничного номера Чехову было не в чем. Весеннее пальто у него взял в Москве Николай и «забыл» вернуть. Пришлось сидеть и писать рассказ или без пальто, ненадолго, отлучаться из гостиницы. Посылая сестре вексель для получения небольшой суммы, он просил «тратить возможно меньше».