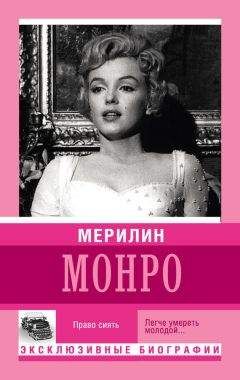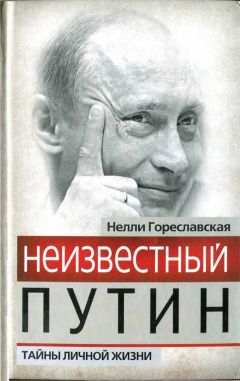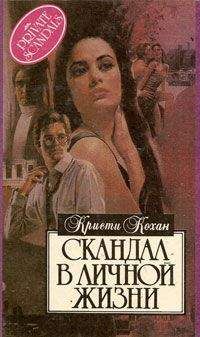Нелли Гореславская - Татьяна Доронина. Еще раз про любовь
«Помню, как свистел, топал, орал «революционный» съезд тогдашнего ВТО в 1987 году, заседавший в большом зале еще не «расстрелянного» Белого Дома, — вспоминала позже в своей статье о Дорониной критик Вера Максимова. — Сценарий съезда был сочинен и до минут заранее рассчитан теми, кто был допущен к тайне приготовляемого «переворота». В тот день с трибуны съезда оскорбляли многих. Согнали с места многолетнего руководителя ВТО, великого актера Михаила Царева. Восьмидесятилетний старик, привыкший к почитанию, даже трепету окружающих, в полном одиночестве, в абсолютной пустоте спускался по парадной лестнице Белого Дома, спешил вон, на воздух, на московские улицы…
Ярость тогдашнего зала по отношению к Дорониной превысила меру приличий. Мужчины забыли, что они — мужчины. Свист и вопли летели в лицо женщине, знаменитой актрисе — не оратору, стоявшей на трибуне и пытавшейся неумело доказать свою правоту — защитить обижаемых и изгоняемых артистов. Свистел и орал Лелик Табаков, обычно добродушный, только что в партнерстве с Дорониной замечательно сыгравший тельмановскую «Скамейку» в еще не разделенном МХАТе…»
Однако не все забыли о том, что они мужчины. Вспомним еще раз, что Владислав Стржельчик, ее верный старый друг и великолепный партнер по ленинградской сцене, «рыцарственно провел свою бывшую подругу сквозь раскаленную яростью толпу в фойе Белого Дома».
«Странное тогда наступило время, — замечает та же Вера Максимова, — кем-то неудачно названное «романтическим», тогда как было оно истерическим и легкомысленно-жестоким. Марк Захаров всерьез требовал разрушить все памятники советской эпохи, переименовать московские улицы, а театрам отказаться от государственных дотаций, без чего не только тогда, но и теперь репертуарные, стационарные коллективы в России — уже не социалистической, но и не капиталистической — попросту погибли бы. С трибун кричали о немедленном введении контрактной системы набора и оплаты актеров. При тогдашней (и нынешней) российской бедности, огромности расстояний, слабости коммуникаций, не преодоленных и поныне трудностях с жильем и переездами; при отсутствии информации о том, кто из актеров занят и кто свободен, насколько хорош или плох, где и как работает, — контрактная система послужила бы лишь появлению громадной армии новых безработных.
Многое Доронина поняла своим женским (бабьим) чутьем куда лучше, чем ее противники, умники-мужчины, энтузиасты немедленных преобразований».
Вряд ли она была глупее этих «умников». Доронина уже тогда, в 1987 году, поняла то, о чем Смелянский откровенно высказался лишь в 1992-м: все эти преобразования, как и разделение МХАТа — попытка уничтожить великий русский театр, и встала на его защиту.
За что и поплатилась.
«Карфаген должен быть разрушен!»
Когда оглядываешься на события двадцатилетней давности вокруг раздела МХАТа, тот театральный скандал поражает каким-то циничным изуверством, извращением вроде бы очевидных для всех понятий.
Казалось бы, да, случилось печальное событие — не стало великого театра. Для тех, кто в этом конфликте участвовал, кто от него пострадал, разделение действительно стало драмой, а то и трагедией. Однако дело публики, критики, прессы, особенно постфактум, когда уже все произошло — наблюдать со стороны, как новые театральные коллективы, образовавшиеся в результате раскола, будут становиться театром, наблюдать заинтересованно, приветствуя успехи и сочувствуя неудачам. Разумеется, при этом могут быть симпатии и антипатии, но правила хорошего тона заставляют антипатии хотя бы сдерживать, если уж совсем их скрыть не удается. И второе. Вообще-то, сочувствуют обычно пострадавшим и обиженным, а не тем, кто затеял драку. Во всяком случае, так происходит в нормальном обществе, в том числе и в демократическом.
Но то в нормальном. У нас же с началом пресловутой перестройки все нормальные понятия о добре и зле оказались перевернуты — по законам «нового времени» обидчик стал его героем, борцом с «тоталитарным прошлым», выступающим за «светлое», теперь уже демократическо-капиталистическое будущее, хулиган — продвинутым новатором, а пострадавший — проклятым консерватором, виноватым, гонимым и поливаемым грязью и площадной бранью. Все это в полной мере пришлось испытать Дорониной и той части труппы, которая осталась с ней.
После окончания Школы-студии МХАТ Ефремова, так же, как потом Доронину, не оставили во МХАТе. Олег не мог этого забыть и простить «неразумным хазарам»! И хотел «отмстить» этим самым «хазарам». Он фанатически верил, что «Карфаген будет разрушен»!
Как говорит сама Доронина, «это было слишком ужасно. Но самое мерзкое началось потом. Те, кто вопреки желанию большинства в коллективе, раздел осуществил, стали обвинять тех, кто против раздела до конца боролся; ответственность за уничтожение «большого» Художественного театра возложили на тех, которые делали все, чтобы преступления не произошло. Разделение — это всегда ослабление. Я уже не говорю о нравственной стороне. Потому что выгонять артистов из театра, в котором они всю жизнь проработали, и проработали хорошо, — жестоко и безнравственно. И эту акцию совершили профессиональный режиссер и профессиональный критик. А другие, многие, тоже профессиональные, поддержали…»
Из «профессиональных» поддержал Ефремова, к примеру, Евгений Евстигнеев. Евстигнеев любил Ефремова, дружил с ним, был его верным сподвижником, в 70-е годы первым перешел вслед за ним во МХАТ из «Современника», искренне веря, что они с Олегом смогут вернуть умирающий, как им казалось, МХАТ к жизни. Естественно, что остался он с Ефремовым и после раздела театра.
Надо сказать, что в 80-е годы Евстигнеев переживал тяжелое время, на него свалилось одно за другим несколько трагических событий. В 84-м умерла мать, смерть которой он тяжело переживал. В 86-м умерла его жена Лилия. Сердце его не выдерживало нагрузок и несчастий, которые его не оставляли. Инфаркты следовали один за другим. Работать много он уже не мог и в 1988 году попросил Ефремова уменьшить ему хотя бы на год нагрузку в театре, то есть не занимать в новых спектаклях. Однако Ефремов жестко ответил: «Если тебе трудно — уходи на пенсию». Верный своему правилу ничего ни у кого не просить, Евстигнеев ушел. Он приходил доигрывать свои спектакли, был так же хорош со всеми, улыбался костюмершам и не показывал, как ему больно. Он был очень ранимым человеком, и то, что он всю жизнь преданно шел за своим режиссером и другом, а тот вдруг в трудный момент сказал: «Уходи», осталось незаживающей раной до конца его жизни. Впрочем, до конца оставалось совсем немного.