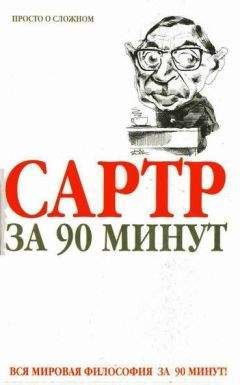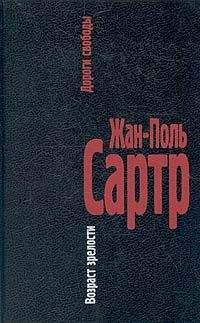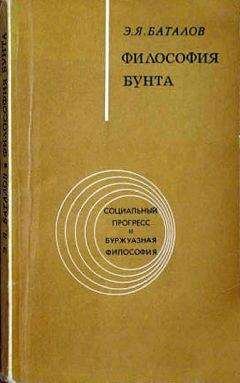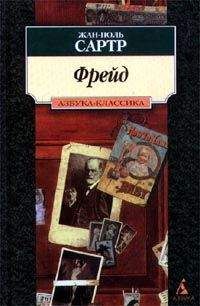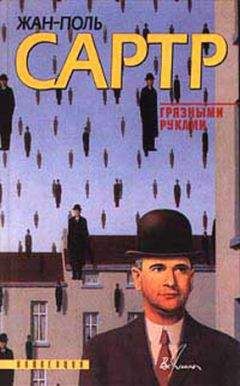Михаил Киссель - Философская эволюция Ж.-П. Сартра
Но и эта крепость оказывается непрочной: ведь тот, для кого любовь есть все, отдает себя во власть случайностей, которые он не в силах предусмотреть и предотвратить. Уход, измена или смерть любимого существа в таком случае равносильны полной катастрофе и окончательному банкротству. «Вот чем все кончается: смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убивают… В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют»[65].
Этот заключительный пессимистический аккорд романа «Прощай, оружие!» по-своему перекликается с основными выводами философского трактата «Бытие и Время» Мартина Хайдеггера, лидера немецкого экзистенциализма и одного из главных философских наставников Сартра. Не то чтобы Хемингуэй начитался Хайдеггера или наоборот — оба названных произведения и опубликованы-то были впервые почти одновременно. Нет, параллелизм объясняется куда более глубокой причиной: оба эти произведения возникли в одной и той же атмосфере и порождены одним и тем же историческим опытом — опытом крушения буржуазного гуманизма.
Общее умонастроение это выражено и в приведенных нами строках Есенина. «Рок событий» — это действительно последний вывод, к которому приходят эмпирическим путем, на основе личного жизненного опыта герои Хемингуэя и который Хайдеггер обосновывает философски в своей «экзистенциальной аналитике» (так он определил жанр «Бытия и Времени»), Две последние категории трактата Хайдеггера (оставшегося незавершенным) так и обозначены: «судьба» и «историчность». «Историчность» потому и присуща человеческому бытию (и только ему одному), что оно представляет собой «судьбу».
И Сартр ратует за «литературу историчности», но только эту историчность он, в отличие от своего учителя, понимает уже с некоторым перевесом социологических мотивов над метафизическими. «Наши старшие собратья писали для людей в отпуске; но для публики, к которой мы теперь обращаемся, отпуск давно кончился… Нас со зверской жестокостью бросили обратно в поток истории, и мы были вынуждены создавать литературу историчности»[66]. Так постепенно перед читателем развертывается идея «ангажированной литературы», отдающей себя сознательному служению свободе в определенной исторической ситуации. «Ангажированная» литература выдвигается как антипод «чистого искусства», добру и злу внимающего равнодушно и желающего лелеять одну лишь красоту в мире чистых платоновских форм. Именно такое искушение, как мы помним, владело Антуаном Рокантеном. Преодолев окончательно соблазны чистого эстетизма, Сартр поднимает на пьедестал литературу осознанной общественной цели, и более того — литературу, преследующую социалистический идеал, хотя не столько в ортодоксально марксистском, сколько в троцкистском освещении. Но для буржуазного интеллигента это был значительный шаг вперед, отражавший общее полевение мелкобуржуазных слоев Франции под влиянием трагического опыта оккупации и освободительной антифашистской борьбы в союзе с СССР.
И все же теория литературы Сартра оставляет в целом впечатление недостроенного здания, зияющего провалами в разных местах. Теоретический инструментарий Сартра, как мы уже отмечали, недостаточно тонок для того, чтобы аналитически расчленить, а затем проследить диалектическую взаимосвязь различных моментов, сплетающихся воедино в процессе литературного творчества. Едва ли не самый главный недостаток его очерка, по нашему мнению, — в растворении концепции художественной прозы в общем понятии литературы, куда входит, между прочим, и философия. Если бы автор при этом не распространял на область литературного искусства, искусства прозы предельно общих характеристик литературной деятельности вообще, то его позиция выглядела бы куда прочнее. Между тем Сартр в своем анализе постоянно перескакивает с одного на другое, не замечая внутренних границ, разделяющих, скажем, публицистику, журналистику и художественную прозу в собственном смысле.
Он справедливо требует, чтобы литература служила передовым идеалам и ориентировалась на аудиторию порабощенных капитализмом масс. Но достаточно ли этих ориентиров, чтобы создать художественно значительные произведения, которые бы пережили тот непосредственный момент, когда создавались, и оставались бы нужны людям долгое время спустя? Пусть не вечно, ибо только исключительные творения гения превращаются в вечных спутников человечества, но все-таки жизнь подлинно художественного произведения должна быть куда длинней, чем срок существования газетного листка, на который сегодня жадно набрасываются, а завтра равнодушно забывают ради новых сенсаций. Похоже на то, что Сартр, отстаивая «литературу историчности», сделал высшим критерием литературы злободневность, совершенно забыв о специфических критериях художественности.
Борясь с абстракциями идеалистической эстетики, некритически оперировавшей категориями «вечных ценностей», будто это что-то аксиоматически очевидное, совсем не требующее обоснования, Сартр, как это часто с ним случается, впал в противоположную крайность — релятивизм и, можно даже сказать, утилитаризм, хотя в теории он признает (и справедливо) утилитаризм установкой буржуазного сознания. Утилитаризм этот, правда, особого рода, он связан с непременным требованием к писателю ограничить предмет своих размышлений одною лишь темой свободы, а художественный эффект произведения — пробуждением чувства свободы.
Но это требование одновременно и слишком широкий, и слишком узкий критерий. Слишком широкий — потому, что всякое художественное произведение способно пробуждать чувство свободы хотя бы тем, что оно воплощает в себе победу активно-творческого формирующего начала над непокорной стихией исходного материала, и этот его эффект совершенно не зависит от исходного намерения художника, а только от его искусства, от умения создавать эстетические ценности. Но в таком случае мы не идем в определении литературы дальше самого общего признака искусства. С другой стороны, сартровский критерий слишком узок, потому что произведение художественной прозы порождает разнообразную гамму переживаний, среди которых чувство свободы не единственное. В этом и проявляется неувядаемая прелесть великих созданий литературы. Кроме того, очень часто пробуждаемые произведением чувства зависят не только от него самого, но и от психического склада читателя и от специфического настроя его чувств в конкретной ситуации чтения. Достаточно хорошо известно, что разные читатели «вычитывают» разное из одной и той же книги. Сартр предполагает абсолютное тождество переживаний автора и читателя, но это скорее счастливое исключение, чем правило.