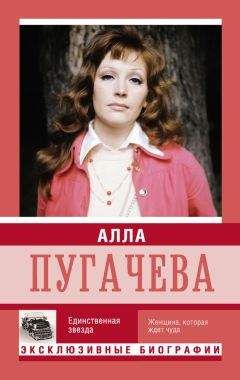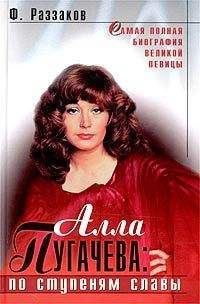Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга первая: Сокровенное.
Дополнение к письму двадцать первому:
ПЕСНИ МОЕГО ДЕТСТВА
Извини, дружок, за эту вот "добавку" к и без того длинному предыдущему письму, но не зря говорится, что из песни слова не выкинешь. Не обойтись тут без воспоминаний и о тогдашних песнях — не патефонных, а "живых".
Недалеко от нас были кавалерийские казармы, о которых я тебе уже писал (это оттуда летели с воем над нашим двором отрикошеченные пули), так вот кавалеристы те часто шагали и пешим строем по нашей и соседним улицам — Ать, два, левой! Ать, два, левой! — и десятки пар солдатских круглоносых башмаков (над ними по голеням до колен — зеленоватые, цвета хаки, обмотки) громко и мерно "печатали шаг" по неровной каменной тверди улицы — скала известнякового плато здесь тогда выходила на поверхность (сейчас она заасфальтирована). — Ать, два, левой! Запевай! — и высокий молодой голос задорно взрезал тишину нашего мирного Фабричного спуска:
С неба полуденного — жара не подступи,
Конная Буденного раскинулась в степи.
И вся рота дружно подхватывала:
Никто пути пройденного у нас не отберет,
Конная Буденного, дивизия — вперед!
Далее шли слова о налете-наступлении той конницы на белых — "мы грянули "Ура", и, бросив окопы, бежали юнкера", и так далее; а вот старшие пацаны, явно подслушав у взрослых пародийный вариант-прогноз песни, который вскоре, однако, сбудется, шепотом вещали друг другу:
Товарищ Ворошилов, война уж на носу,
А конная Буденного пойдет на колбасу!
Строевые песни, в общем-то бравые, мне очень запомнились, вот лишь кусочки некоторых из них:
Мы — Красные кавалеристы, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ,
О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные
Мы смело, мы бодро в бой идем.
Веди ж, Буденный, нас смелее в бой,
Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, пожар кругом…
Я еще тогда, маленький, недоумевал: зачем же пожар?! Или вот такие, прямо скажем, зверские "строевые" куплеты:
С песней — сотня молодых лихачей:
Эге-гей — бей, коли, руби! —
с залихватским таким присвистом. А бить-колоть-рубить призывалось не учебную лозу, не макеты, а живых людей, и не иноземцев, а как бы в продолжение совсем тогда недавней гражданской войны, недобитых белых, да и наверное всех, кто попадет под шашку вошедшего в раж всадника. Впрочем, в репертуаре кавалеристов с Красноармейской улицы были и матросские строевые песни:
Ты, моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюблю тебя я всей душою —
Что ты скажешь мне в ответ?
И рота красноармейцев — не в морских бушлатах, а в серых шинелях, островерхих буденновках и обмотках над грубыми башмаками браво и слитно рявкала припев:
По морям, по волнам, нынче здесь — завтра там.
По морям, морям, морям, морям,
Эх, нынче здесь — а завтра там!
Далее следовали слова о страданиях покидаемой моряком некоей Маруси, опять припев, и запевала выводил на всю улицу продолжение морской истории:
— Ты не плачь, моя Маруся: я морскому делу научуся!
И не будешь плакать и рыдать, меня так часто вспоминать!
И снова рота хором:
По морям, по волнам, нынче здесь — завтра там…
Морские строевые песни отдавали солеными брызгами, тельняшками, бескозырками, клешами:
Якорь поднят, вымпел алый вьется на флагштоке.
Краснофлотец — крепкий малый — в рейс идет далекий.
И тут, разумеется, "не без Маруси":
Как прощались мы в Кронштадте, цепь отгромыхала, —
Ты стояла в белом платье, и платком махала…
Было в песне и нечто астрономическое:
Мы увидим цепь созвездий — блеск над океаном.
А заканчивалась эта романтичная строевая очень хорошими словами:
Что с тобой сравниться может, сторона родная?
Маршировали солдаты (их называли тогда только красноармейцами, солдаты и офицеры мол только в царской армии были) и под такую песню:
На седых уральских кручах вороны кричат:
По Заволжью черной тучей стелется Колчак.
Рота сурово подхватывала припев:
От голубых Уральских гор
В боях к Чонгарской переправе
Прошла, прошла Тридцатая вперед
К пламени и славе
(Чонгар — узкий перешеек, соединяющий Крым с Европейским материком "Тридцатая" — стало быть, дивизия)…
Но хватит строевых, давай лучше я вспомню наши школьные уроки пения. Вел их очень интеллигентный лысоватый учитель, бывший оперный певец (увы, имя-отчество я забыл), заметно переживавший от того, что ему приходилось диктовать нам и петь бездарные строки с не менее бездарными мелодиями, вроде таких:
Глянь-ка, веселою стайкой к лодкам девчата спешат,
И на солнце их оранжевые майки как яркие цветы горят.
Отдых работой заслужен, можно сегодня гулять,
И в семье комсомолии дружной
с утра целый день отдыхать.
Песня длинная, "насквозь" такая же глупая. То ли дело "Интернационал", с которого мы начинали каждый урок:
Вставай, проклятьем заклейменный…
и так далее; мы, пионеры (а других детей в СССР не было), исполняли этот партийный гимн, разумеется, стоя:
Это есть наш последний и решительный бой…
Несмотря на примерное поведение, прилежание (за прилежание ставилась отдельная отметка), музыкальный слух, я на уроках пения стеснялся издавать звуки, а лишь открывал рот. Учитель это видел, но молчаливо прощал мне; вообще оценки этот добрый человек ставил нам не за голос, а за чистоту и грамотность продиктованного им текста песни. Так что по пению у меня всегда были только пятерки…
Пели мы про Щорса, у которого "голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве", и про матроса-партизана Железняка, который "лежит под курганом, заросшим бурьяном", потому как "он шел на Одессу, вышел к Херсону" (ничего, думал я, ошибочка — в полтораста километров!), отчего, разумеется, "в засаду попался отряд", а кончилась эта операция тем, что "штыком и гранатой пробились ребята, остался в степи Железняк"; но вокруг не унывают: "Веселые песни поет Украина, счастливая юность цветет: подсолнух высокий, и в небе далеком над степью кружит самолет", что, однако, бодрости не вселяло, тем более что перед глазами упрямо стоял курган, не усаженный цветами, а заросший бурьяном, то есть неблагодарно заброшенный…