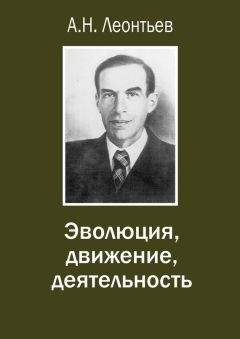Алексей Бондин - Моя школа
— Где?…
— Н-на пароходе.
— Докуда доехал?
— Д-до Царицына.
— А как домой-то попал?
— По этапу п-пригнали. П-полиция. Я без паспорта был.
Денисов еще больше стал заикаться. И лицо его еще сильнее искажалось. Он сказал, что, как только вырастет большой, уедет на Кавказ и откроет там плантацию, будет разводить подсолнухи.
— П-п-подобрать х-хороших р-ребят — и вместе… артельно… Од-од-ному т-трудно…
Весь этот вечер я был с ним. Отец его, черноватый сутулый машинист, всё время следил за нами. Следила за ним и мать его. Она часто выходила и кричала:
— Ваня, где ты?
Ванюшка отзывался, и она, успокоенная, уходила, а мой товарищ, смеясь, говорил мне:
— Д-думают, что я опять уй-ду… Бг-бг-боятся.
— А тебя отец не вздул за это путешествие? — спросил я.
— Х-хотел, да Иван Михайлыч н-не дал.
Я рассказывал Денисову о заводе, о Баранове, о Белове. Он задумчиво слушал меня и вклинивал в мою речь:
— П-понятно… Зд-дорово!.. Ишь ты!
Мне казалось, что возле меня сидит не мальчишка, а взрослый человек. В Денисове исчезла ребячья живость. Ходил он медленно, степенно, как большой, и в ребячьих играх перестал участвовать. Больше всего я его видел на террасе голубятни, с книгой в руках. Он приносил интересные книги. Я брал их читать, но читать было некогда.
Вечером, в пять часов, я уходил в ночную смену. Цех погружался в дымный хаос говора прессов и трансмиссий. В темноте посвистывали, похлопывая вверху, приводные ремни. Невидимо крутились шкивы, позвякивая муфтами, и потрескивала канифоль на ремнях. Лязгая стальным телом, возились венсаны. Люди были видны только у печей. Из подставок выскакивали бархатно-красные костыли. Они ложились в кучу, черную сверху, а внутри кучи медленно потухал красный, жаркий цвет.
У нас однажды испортилась подставка у венсана. Мы с Ванюшкой сбавили нефть форсунки в печи. Штамповщик и мастер Борисов возились у венсана, а я, присев на железный ящик, задремал. Из рук у меня вывалились клещи. Мне снился поп, отец Александр Сахаров. Он взял мою голову и мучительно сдавил мне нос.
Я открыл глаза. Возле меня стоял Трекин.
Он взял мои клещи и сдавил мне нос Я вскрикнул от нестерпимой боли. Клещи звякнули и упали на пол. А Трекин грозно сказал:
— Ты что, спать сюда пришел?
Позади меня кто-то захохотал. Я оглянулся. За колонной ухмылялся Белов. Потом он подошел ко мне и, злобненько улыбаясь, вымолвил:
— Что, выспался?… Не у меня ты робишь, а то бы я тебе не то сделал.
Я заплакал, схватил клещи и замахнулся. Белов ловким движением выхватил у меня клещи, сдернул с меня фуражку и рванул за волосы.
— Вот тебе, щенок ты белогубый! Еще вздумал налетать постарше себя!
А тем временем Трекин безжалостно пинал моего товарища Ки-рюшина.
Прибежал Борисов. Он возбужденно закричал:
— Вы что ребят тираните?… Павел Осипыч! Я же им сказал, что можно отдохнуть, пока мы венсан исправляем.
Трекин ушел. А Борисов, подходя к Белову, внушительно сказал:
— Ты вот что, архимандрит, в наше дело не ввязывайся. Не то я ввяжусь в твое дело. Понятно?
— Чего ты мне сделаешь? — заносчиво огрызнулся Белов.
— Я знаю, чего.
— Ничего ты не знаешь.
— Ну, хорошо, увидим! — сказад Борисов и ласково обратился ко мне: — Давай, Ленька, разогревай печь.
Я снова встал на работу. А Борисов сердито кричал Белову:
— Ребята даром работают, а вы спрашиваете с них, бьете их, как взрослых в кабаке! Сам-то ты только шары свои продрал, дрыхал.
— Ты не видал…
— Видел! Знаю, куда спать ходишь.
— Я — мастер! — ударив себя в грудь, хвастливо сказал Белов.
Я возвращался домой ранним утром. На Лысой горе, на каланче, уныло, монотонно звенел колокол. Из-за горы ласково выглянуло утреннее солнце.
Глаза мои слипались от сажи и усталости. Руки ныли, а ноги дрожали и подкашивались. Лицо заплыло в жгучей опухоли. Хотелось прикорнуть где-нибудь на траве? у забора, и уснуть под лаской теплого утреннего солнца… Но я шел домой, чтобы проспать день, а к пяти часам вечера снова вернуться к венсану. А потом, после двухнедельной работы, получить в конторе от сердитого кассира трехрублевую бумажку и копеек тридцать мелочи.
СНОВА ШКОЛА
Ветреным августовским днем я ушел с завода. Получил окончательный расчет: семь рублей восемь гривен.
В небе торопливо плыли стаи облаков. Временами в синих провалах неба появлялось ослепительное солнце» но оно уже не грело, как грело месяц назад. Деревья тревожно шумели, роняя желтые листья. В их шуме чувствовались первые холодные вздохи близкой осени.
Завод, в обычной железной возне, дымил и стлал едкий дым по улице. Мне знаком был теперь железный шелест завода, его звонкая, стукотня.
За прокопченными стенами остались Борисов, Семен Кузьмич, Ванька Кирюхин. Мне было жаль расставаться с ними. Я как-то прирос к заводу, свыкся с ним. Они по-прежнему будут вставать рано утром, уходить на весь день, вечером приходить усталыми, разбитыми и будут спать до утра. Или уходить вечером, в пять часов, в ночную, а утром с тяжелой головой итти домой, чтобы проспать до вечера и снова итти на работу. И так — без конца. Изнывая в тяжелом труде, люди проклинают, ненавидят этот заколдованный круг.
Мне вспомнилось, когда я в первый раз шел на завод. Меня тогда подмывало волнение, какой-то тихий восторг. Но скоро всё это прошло. Я работал до одурения, стоя по двенадцати часов у раскаленной печи, глотая жирную нефтяную сажу, обжигаясь о раскаленное железо. А за мой тяжелый труд получал кто-то другой. И сотни пудов костылей, которые мы делали, были не наши. И вот теперь с жестокой ясностью вставала мысль, брошенная Борисовым: «Хоть бы для себя, а то для барина. А он не знает о своем заводе и пропивает, поди, капитал, который мы сколачиваем своим потом, своей кровью».
Я уносил с собой тяжелый груз новых чувств и новых мыслей. В последний раз я оглянулся на завод и ушел, подавленный н притихший.
Ксения Ивановна встретила меня необычно радостно:
— Ну что, получил деньги?… Слава богу! Это уж ты возьмешь на книжки. Мне только дай двадцать копеек на сахар. Я фунт сахару куплю.
Но я отдал все деньги. Перебирая в руках новенькие кредитки, она, улыбаясь, сказала:
— Ну, теперь тебе легче будет. Скоро Саша придёт.
Но Сашу я не ждал и не хотел, чтобы он приходил.
* * *
Мы снова шумной гурьбой идем в школу. Я снова в кругу Еремеева, Денисова. Еремеев потолстел, но глаза его всё были те же: еремеевские, спокойные. На лице его лежал густой загар. Он посмотрел на нас с Ванькой Денисовым и удивленно процедил;