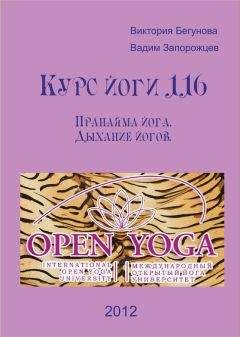Михаил Шрейдер - НКВД изнутри. Записки чекиста
— Прощайте, товарищи! Если кто-нибудь из вас выйдет на свободу, сообщите ЦК партии, что тут творилось.
Занятную фигуру представлял собою музыкант оркестра Большого театра. Это был культурный, очень добрый и душевный человек. Он рассказал нам, что всю жизнь ничем, кроме музыки и литературы, не интересовался и не занимался, был холостяком. У него была любимая женщина — артистка балета Большого театра. Никогда в жизни он не только не привлекался к ответственности, но даже ни разу не был в милиции. Единственный раз столкнулся с работниками милиции, когда в Москве ввели паспортный режим и работникам Большого театра вручали новые паспорта тут же, в помещении театра.
И вдруг его арестовывают и предъявляют обвинение, что он вместе с другими четырьмя музыкантами оркестра якобы подготавливал террористический акт против члена Политбюро ЦК ВКП(б) Косиора. На допросах он сначала все это отрицал, но потом не выдержал избиений и пыток и подписал «признание» о том, что хотел убить Косиора. После этого его оставили в покое и недели две не допрашивали, а затем снова вызвали на допрос, и какой-то большой начальник УГБ стал всячески оскорблять его и называть провокатором.
— Если бы ты, сволочь, убил Косиора, мы бы тебя не только не посадили, а орденом наградили бы. Ведь Косиор оказался матерым шпионом, а ты хотел отделаться. Немедленно откажись от своих показаний и расскажи нам правду, как ты и твои дружки собирались убить товарищей Сталина и Ежова, когда они находились в ложе театра на одном из спектаклей.
Музыкант пришел в ужас и отказался писать такие показания. Тогда по звонку начальника явились четверо здоровенных парней с резиновыми дубинками и «обработали» его так, что он несколько раз терял сознание. Его допрос в тот раз продолжался почти сутки. Следователи менялись, а его, избитого, заставляли стоять в углу и требовали, чтобы он повторял за следователем: «Я — сволочь, я — враг, я хотел убить Сталина и Ежова». Наконец, не выдержав, он к утру подписал требуемые показания.
После этого его долгое время на допрос не вызывали. Но вдруг, уже при мне, его снова вызвали на допрос, как оказалось, для уточнения, из какого оружия он должен был стрелять и как это оружие выглядит. А так как он понятия не имел вообще о каком бы то ни было оружии, то он попросил следователя отпустить его, чтобы вспомнить. И, возвратившись в камеру, стал просить нас объяснить ему, как выглядит то или иное оружие. И вот всем нам пришлось помогать ему в выборе оружия для убийства Сталина и Ежова. Мы решили использовать этот случай для проверки, действительно ли следователи способны на такие фальсификации. Я сказал музыканту, чтобы он настаивал на том, что у него был револьвер — браунинг № 2, а описали мы ему внешний вид нагана с барабаном, куда входит 7 пуль.
На следующем допросе музыкант так и сделал, рассказав, что у него был браунинг № 2, и при этом описал, как выглядит наган, причем еще сказал, что оружие ему дал представитель какой-то иностранной разведки, (немецкой или английской, не помню). Следователь, не разобравшись, записал в протокол все, что он сказал, и побежал докладывать об этом начальнику.
Минут через десять он вернулся вместе с начальником, и тот обратился к музыканту:
— Что же вы, мой дорогой, путаете. Ведь вы хотели убить Сталина не из браунинга, а из нагана. Поэтому давайте внесем поправочку. — И поправочка была внесена.
Этот маленький розыгрыш доставил нам всем минутку веселья, но вместе с тем огромную горечь: «Какая липа!»
4 июля открылась дверь, и вахтер тихо справился: «Кто на букву «Ш»?» Я назвал свою фамилию, и он сказал: «Приготовься слегка». Это был термин, обозначавший, что тебя никуда не переводят, а вызывают на допрос. И вот меня повели на первый допрос. Два вахтера сдали меня следователю, молодому брюнету со знаками лейтенанта госбезопасности. (Фамилии его я так и не узнал.) Первыми «приветственными» словами были:
— Ну, фашистская б…, покажи свои руки, обагренные кровью Кирова.
Я был еще новичком, впервые услышал подобное обращение и с возмущением крикнул:
— Как ты смеешь, сопляк, так разговаривать со мною?! Я — заместитель наркома! А что касается моих рук, так они чище и честнее, чем твои!
Следователь вскочил, и не успел я опомниться, как он изо всей силы стукнул меня кулаком по уху. От удара у меня помутилось в голове. Я едва удержался на ногах и схватился за край стола.
— Садись! — крикнул следователь. — И рассказывай о своей шпионской, правотроцкистской и вредительской деятельности.
Минут пятнадцать он меня не трогал, а я сидел и думал: существует ли еще советская власть? Возможно, в стране произошел фашистский переворот? Но над головой следователя висел портрет Сталина.
Как вы можете сидеть под портретом вождя и так издеваться над коммунистом? — спросил я.
Видно, с тобой по-хорошему нельзя, — с раздражением сказал следователь, тут же снял трубку телефона и кого-то вызвал.
Через две-три минуты в комнату вбежали человек пять молодых людей, все в форме, которым следователь сказал:
— Ну, вот вам знаменитый Шрейдер. Этот отъявленный фашист ничего не хочет показывать. Что ж, ребята, когда враг не сдается — его уничтожают… К нему полностью подходят слова Маркса: «Битье определяет сознание».
Этот подлец кощунствовал, оперируя именем Маркса. Молодцы набросились на меня и начали молотить по чему попало. Этот первый «сеанс» продолжался около двух часов.
В перерывах между битьем следователь опять спрашивал, буду ли я давать показания о своей шпионской деятельности, но так как я молчал, битье продолжалось.
Вдруг раздался телефонный звонок, и я услышал следующие слова:
— Ничего! Крепкая сволочь!
А когда говоривший с ним, видимо, спросил, какие принимались меры, следователь ответил:
Все сделали, но пока впустую. И закончил разговор словами:
Слушаюсь, товарищ начальник, сейчас! Положив трубку, он обратился ко мне:
— Учти, б…, что это еще цветочки, ягодки — впереди! Сейчас пойдем к большому начальству.
Меня провели по коридору и ввели в большой, хорошо обставленный кабинет. За столом сидели хорошо знакомый мне бывший начальник одного из отделений ЭКУ ОГПУ центра Ильицкий, бывший начальник ЭКУ ОГПУ Московской области Минаев (при Ежове Минаев стал начальником отдела, которому было поручено следствие по моему делу. Его замещал Ильицкий). Находящегося в кабинете третьего человека я не знал.
С Минаевым я был знаком по работе еще в 1928–29 гг. Уже тогда, недолюбливая Минаева, я официально отказался работать под его руководством и выехал из Москвы в Ташкент. Ильицкого же я знал по Средней Азии как начальника Бухарского горотдела ГПУ, а затем начальника отделения ЭКУ ОГПУ, куда его перевел бывший начальник ЭКУ ОГПУ СССР Миронов. Ильицкого почти все работники ЭКУ ненавидели как подхалима и карьериста, а он, пытаясь сгладить острые углы, перед всеми заискивал. Я всегда удивлялся, как этот мерзавец мог втереться в доверие к такому замечательному чекисту и человеку, как Миронов.