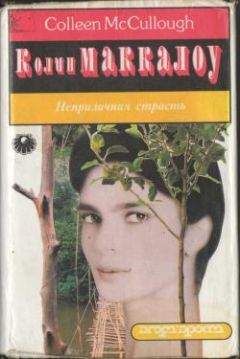Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
Когда я шел в этот день от него, ко мне с новой силой прихлынуло чувство горячего восхищения им. Мне казалось, что я увидел воочию, чего стоит ему «вмешательство в жизнь».
И летом ему не пришлось отдохнуть. Николай Федорович (5 июля) вернулся из-за границы смертельно больной и вскоре по приезде в Куоккалу умер. Накануне вечером за чаем «был, — по словам Короленко, — весел, радостен, остроумен и то и дело пытался петь. В 11 часов попрощался и ушел в свою комнату, опять тихо напевая. Так, под песню за ним и закрылась дверь».
А утром (26 июля) Короленко вошел в его комнату и увидел, что «все кончено». Николай Федорович «ушел, как жил: полный неостывших умственных интересов и веселой бодрости».[38]
Хоронили Николая Федоровича на Волковом кладбище. По словам ленинской «Правды», «над свежей могилой первым заговорил сквозь слезы Короленко. Он обрисовал покойного как человека, который везде и всегда, благодаря своему хорошему сердцу, большому уму и честной мысли, являлся центром, притягивающим к себе всех окружающих… Наконец была произнесена речь, заставившая насторожиться присутствующих и полицию. Говорил рабочий, говорил о том, что не настало еще то время, когда можно будет принести венки тем, которые их заслужили… „Не настало, но настанет!“ — закончил оратор».[39]
В Куоккале жили в то время дочь и жена Короленко, люди очень близкие ему по всему своему душевному складу. Они окружили его нежнейшей заботой. И все же он тяжко тосковал по отошедшем товарище. После похорон тотчас же принялся писать о нем статью для журнала, страницы которой (как рассказывала мне тогда же Татьяна Александровна) не раз орошал слезами. Вдова Анненского Александра Никитична буквально не находила себе места от горя, хотя старалась держаться возможно бодрее. Шура, Соня, Володя и Таня надолго притихли по разным углам.
XI. Репинский портрет Короленко
Прошло недели три. Первая боль притупилась. Короленко по-прежнему впрягся в работу. В августе И. Е. Репин, с которым я виделся почти ежедневно, попросил меня передать Владимиру Галактионовичу его горячую просьбу — посетить возможно скорее «Пенаты». Он все еще не оставил мечты написать портрет Короленко.
И приготовил для портрета свой особый, крупнозернистый, так называемый «репинский» холст.
Но Короленко и на этот раз долго отказывался.
— Повторяю, — говорил он, — для меня это великая честь, но я очень занят, работы прибавилось втрое, и вообще сейчас у меня не то настроение.
В конце концов все же нашел в себе силы позировать Репину. Мне и художнику Исааку Израилевичу Бродскому было поручено Репиным «эскортировать» Короленко в «Пенаты».
Репин встретил его шумно и радостно и тотчас же, в первые десять минут, усадив его на поставленное боком невысокое креслице, нашел для него очень экспрессивную, непринужденную позу и с обычной своей творческой страстью стал быстро лепить на холсте и его курчавые волосы, и его маленькие, пронзительные, необыкновенно живые глаза. Не в застылой академической позе возникал перед нами писатель на «крупнозернистом» холсте — нет, он был весь в движении: казалось, он присел на минуту рассказать о чем-то увлекательном, но расскажет, и встанет, и снова пойдет, куда хочет, непоседа, странник, пешеход, неутомимо шагающий с дорожной котомкой из деревни в деревню для дружески внимательного общения с народом. Сейчас он присел ненадолго, и в динамическом наклоне всего корпуса, в выражении рук и лица чувствуется, что он не один, что его окружают люди, которые слушают его с живейшим сочувствием.
Добиваясь типичности, Репин отмел, как случайные, следы утомления и грусти, которые были в то время на этом лице. На портрете лицо бодрое, без тени уныния.
Чуть только Репин усадил его в нужную позу, он, Короленко, сразу же стал рассказывать нам о своей жизни в Румынии, о своей поездке в Америку, о Сибири, об Анненском, о художнике Ярошенко, о Горьком, о Чехове; все мы слушали его с восхищением.
Репин так и изобразил Короленко в позе оживленного рассказчика. С тех пор прошло уже больше полувека, но и сейчас стоит мне только взглянуть на репинский портрет Короленко, воспроизводящийся нынче во многих изданиях, и портрет начинает звучать, словно Репин вместе с человеком запечатлел на холсте его голос. Я не только вижу Короленко, но и слышу (до иллюзии ясно!) его мягкую, южную, образную, богатую жизненным юмором речь.
Весь этот выразительный и очень похожий портрет был написан сразу, в один день, широкой, размашистой, уверенной кистью, но, к сожалению, художник стал переделывать его, добиваясь гармонии красок, и после каждой новой переделки портрет становился все хуже: в конце концов мазки кое-где утратили свою лаконичность, стали раздребезженными, вялыми, что очень огорчило Короленко, который с самого начала от души полюбил созданный Репиным образ.
Вместе с Репиным тогда же, в его мастерской, написал Владимира Галактионовича и Бродский.
После первого сеанса писателю пришлось еще раза три в этот месяц посещать «Пенаты» и снова позировать Репину, жаждавшему «доработать» портрет, который, повторяю, был, в сущности, совершенно закончен. И не было случая, чтобы, возвращаясь от Репина, Короленко не восхвалял его удивительной скромности:
— Скромность невероятная и совсем для меня неожиданная!
Владимир Галактионович не знал, что то же самое — и теми же словами — говорит о нем Репин после каждого свидания с ним.
Через много лет престарелый художник, заговорив в одном из писем ко мне о некоторых вещах Короленко, вспомнил то время, когда знаменитый писатель позировал ему для портрета, и снова не преминул восхвалить его скромность.
«Какая гениальная вещь его „Тени“, — восхищался Илья Ефимович в письме. — Удивительно, непостижимо! Как мог он так близко подойти к святая святых язычества!.. И подумать только: это сделал наш простоватый полтавец — чудеса! А его мелкие жанры! Вот откуда вышел Горький. А помните наши сеансы здесь? — он образец скромности и правды».[40]
ГОРЬКИЙ
Горького я впервые увидел в Петрограде зимою девятьсот пятнадцатого года. Спускаясь по лестнице к выходу в одном из громадных домов, я засмотрелся на играющих в вестибюле детей.
В это время в парадную с улицы легкой и властной походкой вошел насупленный мужчина в серой шапке. Лицо у него было сердитое и даже как будто злое. Длинные усы его обледенели (на улице был сильный мороз), и от этого он казался еще более сердитым. В руке у него был тяжелый портфель огромных, невиданных мною размеров.