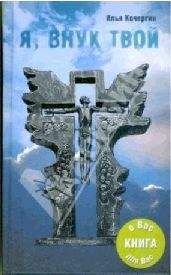Запасный выход - Кочергин Илья Николаевич
Они, конечно, помогли нам, эти обряды, эти танцы вокруг коня с веревкой. Веревка и проведенное вместе время немного привязали нас друг к другу. Мы вдыхали его запах, смотрели на его тело и ему в глаза, мы привыкали к тому, что он немой иностранец. Приучались к его доброжелательному взгляду немного сквозь тебя, к выразительным движениям ушей, к своей глухоте и неумению владеть своими «неподатливыми телами», слишком зажатыми для того, чтобы общаться с ним.
Теперь мы все чаще просто ходим вместе с ним на выпас вечером и смотрим, как он щиплет траву. Конь ценит такое совместное провождение времени. Мы тоже.
Это совершенно впустую потраченное время – без упражнений, без работы, без команд, без усваиваемых навыков и знаний – кажется, сближает нас наилучшим образом. Я полюбил смотреть, как конь срывает траву, и полюбил слушать звук срываемой травы. Мне нравится глядеть на розовый горизонт, когда рядом со мной молча срывают траву. Мне нравится, когда ее по-дружески выедают из-под самой моей ноги. Я ценю, если ко мне прижимаются большим боком, пока я слежу за силуэтом совы в темнеющем небе.
Иногда мы стоим вместе с любимой, и конь всовывает между нами морду, потом раздвигает нас телом и расставляет наши фигуры на выпасе так, что мы его окружаем. Приятно ведь, если тебя окружают близкие тебе люди. Мы стали меньше хотеть от него и больше получать. Мы присмотрелись к нему, и Любка, например, даже немного научилась различать «треугольник боли» над глазом в дни межсезонной ломоты в расшибленных суставах. Я пока что не вижу.
Вы пытались различить эмоции на конской физиономии? Это трудно. У меня не получается. У них всегда покерфейс такой, что ничего не понятно, довольно ли животное, радостно ли. Или оно подавлено, или болит где-нибудь у него.
В октябре он поднялся на дыбы, когда я вернулся из Казахстана, с таким бесстрастным выражением на морде, что я отказался считать это проявлением радости.
Они как индейцы, им нельзя показывать свою боль и слабость. Нельзя хромать, морщиться от боли, выглядеть усталым, грустным, разочарованным, отсталым, брошенным. Лучше вообще никак не выглядеть. А то мы, хищники, их, больных, из всего табуна первыми выберем для того, чтобы перегрызть горло или сдать на колбасу и завести себе нового коня.
Я и с людьми плохо различаю, что происходит. В юности научился улыбаться и глядеть в глаза собеседнику. Однако если все твое внимание сосредоточенно на самом себе, на своем настроении, на своих мыслях, на тех великолепных скачках от величия до ничтожности и обратно, в которые тебя вгоняет постоянный стыд, то трудно увидеть другого, даже если глядишь ему в глаза и приветливо улыбаешься. В его глазах ты все равно видишь только себя, свое выдуманное тобой отражение и ничего больше.
Ты проводишь целую жизнь, настороженно вслушиваясь лишь в себя, подобно человеку с тяжелого похмелья, сидящему утром на лавочке у магазина и ждущему открытия.
Теперь я все чаще выхожу из своей похмельной сосредоточенности на себе и смотрю на другого.
Этот Другой пахнет лошадью, он имеет свой, непонятный тебе язык, свои эмоции, свой опыт и свои проекции. У него большие зубы и крепкие челюсти, его тяжелые копыта могут убить тебя. Ты тоже можешь убить его из отцовского ружья. Но вы оба вместо того, чтобы наносить друг другу повреждения, выбираете стоять рядом на выпасе и радоваться полезшей из земли зелени. Этот Другой иногда дружески прикасается к вашему плечу чуткой и подвижной верхней губой, а вы чешете ему лоб или выпутываете из гривы репьи.
Если я думаю о чем-то плохом, конь отходит от меня.
Еще конь не любит, когда его боятся. Наверное, ему неприятно. Я помню, как мне неприятно стало в юности, когда впервые на темной улице я увидел, как девушка ускорила шаги, оглянувшись на меня. Как она могла испугаться, ведь я – это я? Хороший и добрый.
Конь легко следует за мной, когда я спокоен и уверен. Избегает меня, когда я в растерянности.
Конь постоянно изучает нас.
Конь с тобой рядом – это возможность наконец сделать то, чему не находил сил и смелости всю свою жизнь. Возможность говорить и вести себя с другими просто и искренне.
Еще немного, еще сколько-то вечеров, проведенных на выпасе, еще несколько дней в леваде в попытках заставить его следовать за собой без веревки, и я научусь быть искренним и открытым. Я научусь видеть собеседника, а не только самого себя в его глазах. Начну понимать его язык, различать чувства на физиономии и в движениях тела.
Но с непривычки я устаю. Мне тяжело так вот напрямую общаться. Сложно обмениваться эмоциями, не оценивая себя со стороны, не размахивая здравым смыслом и логическими выкладками.
От такого прямого контакта я отдыхаю за работой, мы этим всегда охотно пользуемся. Вот и я воспользовался тем, что в апреле до нас дотянули газ, и начал делать пристройку к дому, в которой разместится газовый котел для отопления, где мы устроим Любке водопровод и канализацию.
Снова деревянные колышки, размечающие на земле будущее строение, снова шнурок, натянутый между ними, снова из кабинки летнего душа выползает бетономешалка.
Я успел лишь выкопать траншею под фундамент, а Любка уже начала мысленно возводить стены и расставлять внутри этих стен такие прекрасные вещи, как раковины для мытья посуды и для умывания, стиральную машину, душевую кабину, унитаз. Даже посудомоечную машину умудрилась втиснуть.
Я залил фундамент и уехал в Каменную Степь к Васе Нацентову. Пусть пока бетон захрястнет хорошенько.
Всего-то четыреста пятьдесят километров проехать по бывшему Дикому Полю, а совсем все другое становится. Дома как-то по-другому стоят, поля по-другому раскидываются. А как по-другому – не могу сказать, вроде всё похоже на первый взгляд.
Я ночевал в крохотной гостиничке, откуда ночью не видно ни одного огонька. Утром возле дверей в кустах пасся заяц.
Мы отправились с Васей обходить окрестности.
Хорольская балка, Докучаевский колодец, пруды, арборетум, знаменитые Докучаевские лесополосы, пруды. Вы когда-нибудь открывали новый для себя ландшафт в компании с поэтом, знающим язык птиц? Я вот открывал. Я даже увидел, как колышется на ветру ковыль. А потом мы продрались сквозь заросли в рощу сухих тополей посмотреть на колонию серых цапель.
Мертвые побелевшие тополя были усажены неаккуратными гнездами, похожими на кучи хвороста, на них садились или с них взлетали, ломая ветки, голенастые, хрипло кричащие птицы. Размах крыльев – под два метра. Мы задрали головы в серое мокрое небо и время от времени передавали друг другу бинокль.
Не знаю, какое впечатление произвела бы на меня колония цапель, наблюдай я ее не в обществе поэта, а в обществе, например, психотерапевта. Но я был именно с поэтом, а в природе суетливо заканчивалась весна, птичье царство было по горло занято делами, да и растительное, и животное тоже. Во мне ритмично шевелились процитированные Васей строки разных известных и неизвестных мне поэтов, все вокруг казалось поэтичным, даже несколько театральным. И, наверное, от всего этого цапли произвели на меня большое впечатление.
Посмотрите как-нибудь в наступающих легких сумерках на колонию цапель, забравшись вместе с поэтом под самые их чудовищные гнезда, послушайте страшные нечеловеческие крики, и вы поймете, как приятно, что мы живем на одной Земле с лошадьми, а не с летучими ящерами.
– Мне от них как-то нехорошо. Я их, наверное, боюсь, – сказал со смущенной улыбкой Вася Нацентов.
Васе нравятся одуванчики, а не серые цапли.
Мертвая роща, сырая почва под ногами, огромные лопухастые листья каких-то растений, обрызганные белым пометом, мертвая ушастая сова на земле, пробитая длинным клювом, тяжелое биение крыльев, треск сучьев. Или вот понюхайте запах, запах сильно действует. Приглядитесь к хохолкам на головах у цапель – они похожи на выросты на затылках птеродактилей. Колония цапель – это чистая хтонь и мезозойский ужас, это пугающее прошлое, которое природа умело маскирует веселыми березками и ромашками.