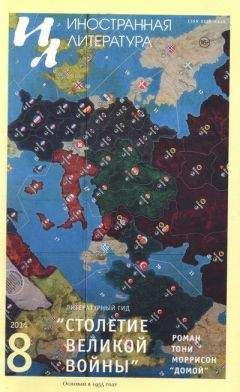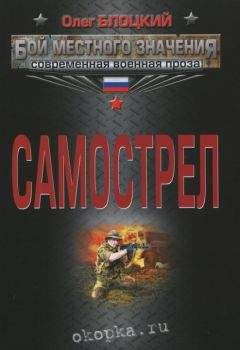Владимир Набоков - Из переписки Владимира Набокова и Эдмонда Уилсона
Читаю Женé. Тебе, надо полагать, это имя известно. Его чудовищно неприличные книги стали издаваться и продаваться только теперь. Гомосексуалист и вор, он большую часть жизни просидел за решеткой. Говорят, что Кокто, пытаясь вызволить его из тюрьмы, заявил властям, что Жене — величайший из ныне живущих французских писателей, и должен сказать, что с этим, пожалуй, нельзя не согласиться. Я прочел «Notre-Dame des Fleurs» и «Journal du Voleur»,[165] и обе книги, особенно первая, произвели на меня очень сильное впечатление. Этот писатель абсолютно ни на кого не похож — просто не укладывается в голове, каким образом он, мальчишка из приюта, в юности — вор и бродяга, сумел набраться знаний и развить в себе столь блестящий дар. Его язык, интонация так же уникальны, как и его жизненный опыт. Ему, как мало кому до него, удалась тема психологической амбивалентности (золотое слово!) подчинения и подавления, чему столько свидетельств в современном мире и чем интересуешься и ты тоже. Я дам тебе «Notre-Dame des Fleurs», если тебе эта книга еще не попадалась. Надеюсь, ты уже пошел на поправку. Привет Вере.
ЭУ.
__________________________802 Е. Сенека-стрит
Итака, Нью-Йорк
17 апреля 1950
Дорогой Кролик,
большей частью русские писатели употребляют и «-ой» и «-ою», что не может меня не огорчать. В каком-то смысле это сравнимо с взаимозаменяемостью which и that[166] у англоязычных авторов. Самым злостным нарушителем унификации был Толстой, у него подчас в одной фразе встречаются оба окончания: За желтою нивой и за широкою сонной рекою. Чавчавадзе, думаю, решил, что ты ведешь речь о стихах. Что до меня, то я, в душе педант, предпочитаю окончание — ой, за исключением тех случаев, когда возникает «музыкальная» нужда продлить жалобный вой творительного падежа.
Мы с Верой были очень рады твоим славным письмам. Почти две недели я пролежал в больнице. Вою и корчусь в муках с конца марта, когда грипп, который я подцепил на довольно скандальной, хотя и организованной из самых лучших побуждений вечеринке, вызвал чудовищную межреберную невралгию, вследствие чего, страдая от непереносимой, непрекращающейся боли и столь же непереносимого страха, вызванного мнимыми болями в сердце и почках, я очутился в руках докторов, которые на протяжении многих дней ставили на мне нескончаемые эксперименты, и это при том, что я клятвенно заверил их, что свою болезнь знаю наизусть и в точности таким же истязаниям подвергаюсь за жизнь уже в пятый раз. Я и сейчас еще не совсем здоров, сегодня у меня случился небольшой рецидив; я пока в постели, дома. В лекционном же зале меня прекрасно заменяет Вера.
Пишу последнюю (16-ю) главу книги.{218} В «Нью-Йоркере» будет напечатана еще одна — пятнадцатая — глава, довольно замысловатая, о детстве моего сына,{219} которую я только что им продал. В результате «Нью-Йоркер» приобрел двенадцать из пятнадцати предложенных журналу глав. Одна глава напечатана в «Партизэн», две же оставшихся, и та и другая приправленные политикой, не пристроены до сих пор. Возможно, одну из них пошлю в «Партизэн»,{220} хотя платят они не ахти.
Присылай же скорей книгу этого вора!!! Люблю неприличную литературу! На следующий год буду вести курс под названием «Европейская изящная словесность» (XIX и XX век). Каких английских писателей (романы или рассказы) ты бы порекомендовал мне включить? Нужны по меньшей мере два автора. Намереваюсь главным образом опереться на русских, по крайности, на пятерых широкоплечих русских, для иллюстрации же западноевропейской прозы возьму, видимо, Кафку, Флобера и Пруста.
На мой взгляд, твое стихотворение — самое удачное из всех, которые ты написал в этом духе. Мне необычайно понравился стих про «пифку-пафку»{221} — я бубнил его себе под нос, когда лежал, превозмогая боль, в клинике. Каждый вечер мне кололи (доходило до трех уколов за раз) морфий, но уменьшить боль до тупой и переносимой удавалось всего на час-другой. Просматриваю стихи и эссе Элиота, читаю сборник критических статей о нем и лишний раз убеждаюсь, что он — мошенник и прохвост (еще больший, чем смехотворный Томас Манн, — но более умный).
Напиши мне еще одно интересное письмо. После стольких недель боли нервы у меня совсем расшатались. Огромный привет всем вам от нас обоих.
В.
__________________________Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
27 апреля 1950
Дорогой Володя.
(1) Только что открыл Медного всадника, то место, которое я, по-твоему, неверно перевел. Советский текст (редакция Бонди, Томашевского, Щеголева) звучит так: Наш герой / Живет в чулане. Я позвонил Полу Чавчавадзе и попросил его посмотреть это место в старом издании, и там он, вместо в чулане, обнаружил в Коломне, как ты и говорил. Советская редакция, по всей вероятности, восстановила несколько мест в поэме, которые были изменены по настоянию Бенкендорфа, — кое-какие мрачные подробности, например, описание лачуг, смытых наводнением. Надо будет посмотреть оригинал — может, найдется еще что-то.
(2) Русская грамматика. К вопросу о творительном падеже. Прежде мне было очень не по душе его употребление для обозначения переходного, неактуального состояния: Когда я был мальчиком или Она воображала себя в будущем не иначе как очень богатою и знатною, — теперь же такое употребление видится мне очаровательным нюансом. Но чем я до сих пор не в состоянии овладеть, так это предикативной формой прилагательных. Вот что я встречаю у Чехова: Вы сегодня Бог знает какой скучный! Почему не скучен или скучны? Может, все дело в слове какой?
(3) Послал тебе книгу Жене, интересно, что ты скажешь. Меня потряс язык, сочетание арго, заурядных коллоквиализмов, причудливого книжного языка и точных технических терминов. Гюисманс, который умел совмещать такие вещи лишь синтетически, был бы от Жене без ума. Есть у него вдобавок некоторая нарочитая неграмотность — что бы ты, например, сказал о том, как он употребляет одно из своих любимых словечек sourdre[167] (которое он иногда пишет soudre). Он изобрел от него причастие sourdi по аналогии, видимо, с ourdi,[168] подобно тому, как Фолкнер придумал surviven по аналогии с driven[169] и т. д. У них с Фолкнером вообще немало общего; чем-то Жене напоминает и тебя — не этими солецизмами, разумеется.
(4) Посылаю тебе также небольшую бандероль с моими собственными сочинениями.