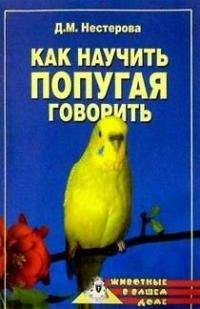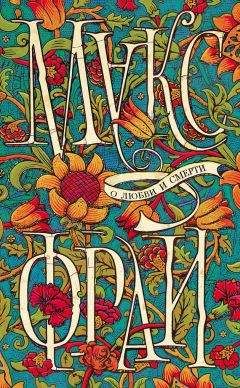Анвар Исмагилов - Люди былой империи (сборник)
По дороге Брунько пытался читать стихи, плакал, икал и приставал к девушкам. Его могучее обаяние сохранялось даже тогда, когда от него несло козлом, а филологини должны были бы оскорбиться и отвергнуть бред одинокого безумца. Я помалкивал, – попробуй, сохрани облик после года в ростовской тюрьме! В Дом актёра мы ввалились, уже изрядно приустав. Посередине большой тёплой комнаты, где жил Виленыч, стояла кривая раскладушка зелёного полотна с вялыми пружинами. Я выпил с поэтом, улёгся на раскладушку, застонавшую подо мной, взял с пола принесённую с собой гитару и предложил:
– Мин херц! Давай песню напишем!
Виленыч диким глазом покосился на меня и не поверил своему счастью. Я знал, что для него в мире существует только один звукописатель его стихов – я… Перебирая струны, я вспомнил, что в тетради, вынесенной из тюрьмы Валерой Гугниным, была «Античная баллада», созданная по мотивам нашего музейного житья-бытья в Башне Поэтов, посреди древнегреческих развалин.
– Ну-ка, Саша, напомни первые строки.
И была у поэта гитара, гитара…
И была у поэты жена, всех прочих прекрасней…
А какой дворец – не то, что моя хибара!
– Нет, это я помню, а дальше, про жеребца. «А какой жеребец – невиданной чёрной масти…»
Я уже не слушал и не слышал соавтора. Вся баллада вспыхнула в голове, да ещё в оркестровке. Эх, мне бы закончить тогда Киевскую консерваторию! Я бормотал про себя стихи, завывал, подпрыгивал на раскладушке, а Виленыч пытался подсказывать ходы и решения, держа надо мной машинописную рукопись. В конце концов я не выдержал и рявкнул:
– Саша!!! Я же не учу тебя стихи писать! Молчи, пока я не закончу.
Александр Брунько за пишущей машинкой. Дом актёра, середина 80-х годов.
По-моему, он тогда обиделся. Насупился, бросил бумагу на пол, закурил очередную вонючую «Приму» и молча вслушивался в творческий процесс. Минут через десять «Античная баллада» была готова. Я сказал ему примирительно:
– Ну-ка, дай мне стихи.
Я спел ему с начала до конца, и Виленыч забегал по комнате.
– Ты понимаешь, ты понимаешь или нет, что теперь и помирать можно?! Памятник мы себе уже поставили!
– Я бы предпочёл ещё помучиться!
А через месяц приезжает в Ростов Саша Розенблюм, на котором в тюрьме помешался Виленыч. Аргументация успеха затёртых кассет среди урок была алогичной: когда Брунько пытался их подначить – это же, мол, жид, шо ж вы его так любите? – они отвечали: да, жид, но это русский жид! А в станице Грушевской за четыре года до этого Виленыч, обитавший лешаком в небольшой избушке, пришёл в гости к Жене Матвееву, казачине, выстроившему настоящую усадьбу на зелёной горке в центре станицы. Кроме двух домов, у него была сауна со зрительным залом, кухней и камином. Виленыч поискал Женю дома, не нашёл, пересёк поляну и заглянул в зал. Там сидел плотный черноусый мужик в красной футболке, и что-то писал, покуривая цигарку. Они обменялись незначительными служебными фразами и разошлись, так и не узнав ничего друг о друге.
И вот я, узнав о приезде Розенблюма во Дворец спорта, или «дворец с понтом», решил восполнить пробел и познакомить поэтов, а заодно устроить традиционные посиделки с клубом и почитателями. За два дня мы обзвонили особо важных персон и таинственно приказали собираться в Доме актёра в девять вечера. Условием попадания на встречу с Розенблюмом была выпивка в большом количестве и закуска в умеренном. Ростовчане расстарались: дело было поздней осенью, и стол в огромной тёмной мастерской на третьем этаже заставили банками с помидорами, огурцами, соте, баклажанами с чесноком к жареной поросятине, а жирных лещей и балыковых толстолобов просто сложили на отдельном столе в углу.
Девушки сервировали стол, а я с президентом клуба Игорем Левиным отправился за Розенблюмом. Из Дворца уже вываливались первые зрители, удачно покинувшие зал ради гардероба. Мы, конечно же, не могли пробиться со служебного входа: плотная толпа человек в сто прильнула к прозрачным стенам, и смотрела внутрь. Но, на моё счастье, я увидел Сашу, идущего со сцены, пробился через двух милиционеров и заколотил изо всей силы в витринное стекло двери. Он, как ни странно, услышал, ухмыльнулся и послал за нами администратора. Пока мы объяснялись и поднимались наверх, в гримёрку, Розенблюм уже успел раздеться по пояс, завалился в кресло и лежал, расслабленно раскинув руки-ноги. Вокруг в почтительном молчании стояли гости из местных шишек. Саша взял поднесённого ему полупрозрачного, истекающего янтарным жиром рыбца, разорвал его руками и ел духовитое мясо, успевая одновременно отдавать указания администраторам и разглагольствовать об искусстве.
– Садись, Садат, сказал Саша, – в ногах правды нет. Рассказывай, как дела?
– Могилевич умер полгода назад, – тихо ответил я.
– Да знаю я! – он погрустнел. – Ты же помнишь, что я ему всегда говорил. А на похороны не поехал, потому что не мог ломать график, – меня же повсюду тыщи людей ждут…
Мы помолчали.
– Поехали с нами, старик, – предложил я, – там весь клуб собрался, человек шестьдесят, стол накрыт, песни попоём.
Он внимательно посмотрел на меня и тихо, так, что никто не услышал, сказал:
– Нет, брат, я уже по клубам не хожу. Передай им привет…
Разговор закончился. Набежали ещё какие-то люди, и Розенблюм только помахал мне рукой, отвлечённый дамами со всевозможными признаками слабого на передок пола.
Снова красный трамвай «десятка». Приезжаем в Дом актёра, и я с порога говорю:
– Пулемёта я вам, ребята, не дам! Саша не смог поехать – его уже в десять мест пригласили.
И тут с горя началась такая концертно-танцевальная пьянка, о которой до сих пор вспоминают даже в Виннипеге!
С тех пор в Ростове создалось прочное мнение: если Садат хочет выпить, закусить и попеть для своих, то он приглашает на Розенблюма. Тот не приезжает, но стол уже накрыт – не пропадать же добру!
Тюмень. Филармония
Прошло почти двадцать лет.
На толстом витринном стекле Тюменской госфилармонии вижу знакомый лысый череп и название, явно сработанное для гастролей: «Транссибирская магистраль». Розенблюм приезжает в наш город уже третий раз на моей памяти, а всё сходить недосуг. Иду, покупаю у знакомой татарки Гульфии самый дешевый билет за стольник, сижу в директорской ложе, пью от волнения самый дорогой из русских коньяков, причем самый дерьмовый, Е-бургский, с волнующим сердца обывателей дворянским названием «Тайный советникъ».
В чёрном зале филармонического буфета мне всё время попадаются знаменитости: сын директора Бермана, чернявый трудяга-раздолбай Ингвар, купивший папе, заслуженному артисту республики, чёрный рояль «Стейнвей» за семьдесят штук зеленых; губернатор Корецкий с женой, наёмной работницей социального банка – такова официальная версия владения (в семидесятые читали нам лекцию об украинском национализме, и фамилия его родного брата, создателя университетской организации «Молодь Украïни», стояла на первом месте в чёрном списке).