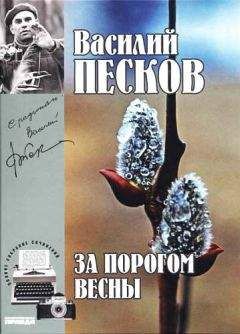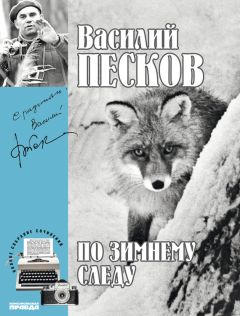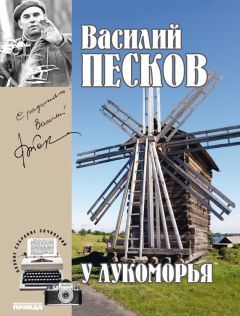Виктория Миленко - Аркадий Аверченко
Но большей частью он является во главе шумной, остроумной, грохочущей компании сатириконцев.
Тут — поэт людского безобразия, человеческой пошлости и пакости — высокий, тонкий, сдержанный Ре-ми; шумный, гремящий „коновод“ „галчонка“ Радаков, вечно веселый, всегда остроумный, всегда жизнерадостный… <…>
Сатирическая компания сразу занимает три-четыре столика, и немедленно же начинается несмолкаемый „дебош“. Остроты, эпиграммы, каламбуры сыпятся, как из громадного мешка. Одно пустяшное замечание, движение рукой, поза — все дает им тему для остроумия — легкого, свободного, ненатянутого.
Стихами сатириконцы говорят, как прозой.
Кто-то уронил часы под стол, поднял их и стал рассматривать. Красный серьезно дает рифмованный совет:
Теперь излишни ох и ах.
Но и дурак ведь каждый ведает:
Стоять возможно на часах,
Но наступать на них не следует.
Князев сообщает, что на днях у него выходит книга о народной поэзии — частушке[34].
Батька благодушно поощряет:
Твое творенье, милый друг,
Достойно всяких восхищений,
Недаром все кричат вокруг,
Что это целый воз хищений.
Шум вокруг столика стоит невообразимый. Голос Радакова слышен чуть ли не до выхода.
Художники, между тем, в балагурстве и празднословии обсуждают темы и рисунки для следующего номера, поэты и прозаики выслушивают „проказы“ батьки… Совершенно незаметно, шутя, составляется номер. Каждый знает, что ему нужно подготовить к четвергу.
Красный вскользь сообщает о том, что едет в Харьков в кабаре „Голубой Глаз“.
Батька высказывает соображение:
— Значит, харьковцы увидят бревно в своем „глазу“…
И оба чокаются ликером.
Прибывает публика после спектаклей. Разговор в зале становится общим. Остроты и экспромты летят из угла в угол и покрываются дружным хохотом.
Декадентский поэт читает свои новые стихи и заканчивает:
Мои стихи уйдут в века…
Сатириконский батька и тут добродушно кивает головой, но поправляет декадента-приятеля:
Твои стихи уйдут в века, —
Сказал ты это молодецки.
Но эти самые „W. К.“
Пиши ты все же по-немецки[35].
В интимном кружке на участников иногда нападает „стих“ Козьмы Пруткова, и тогда сверкают оригинальные афоризмы и блестки остроумия, на что особенно щедр сатириконский батька.
Храни заветы старины —
Носи со штрипками штаны… —
советует он В. К-ву, сидящему в слишком коротких брюках.
Дает общее наставление, смеется глазами, но, как истый хохол-юморист, имея совершенно серьезное лицо:
Когда тебе безмерно любы
Литавры, лавры и почет —
Ты вынь глаза, возьми их в зубы
И плавно двигайся вперед…
Вася Регинин сентенциозно замечает:
Наплюй на жизнь слепых кротов,
Люби изломы линий,
Люби игру живых цветов,
А между ними „Синий“[36]…
Гасят люстры и лампионы, но никто еще не хочет уходить по домам. Все медлят. Нужны усиленные просьбы самого Ивана Сергеевича, и только напоминание о том, что официанты устали и барышни за буфетом падают от усталости, заставляют юмористов, беллетристов и поэтов подняться с насиженных мест.
На дворе бурлит вьюга. За снегом холодно мигают фонари. Несколько извозчиков и моторов нагружаются к Ходотову. Богема собирается куда-то на Фонтанку в чайную варить свежую уху с поплавка, остальные мирно разъезжаются по домам.
Сатириконцы с несмолкаемым хохотом провожают своего батьку до его подъезда и садятся в моторы» (Ирошников Ю. «Сконгломерировав актеров и поэтов…» (Ресторан «Вена»: из истории российской литературной богемы начала века) // Вопросы литературы. 1993. № 5).
Забавный эпизод из «венской» жизни вспоминал литератор Е. И. Вашков в рукописи «Литературные брызги», до сих пор не опубликованной[37]. Однажды разговор в компании перешел на тему, что легче писать — стихи или прозу. Поспорили Аверченко и поэт Александр Рославлев, колоссального роста и колоссальной же толщины человек, который часто повторял: «Я в литературу животом пройду».
— Прозу каждый отходник может писать! — заявил Рославлев.
— А стихи, — продолжил Аверченко, — даже Рославлев! Подумаешь, трудность какая — сочинять рифмованную дребедень!
— Попробуй, сочини!
— Изволь!
Аверченко тут же на скатерти написал: «Возле сена спит собака, утомленная от дел, стережет его, однако, чтобы Рославлев не съел!» Все засмеялись, а Рославлев, пощипывая козлиную бородку, произнес:
— Глупо! Да это стихотворение и не кончено. Конец вот такой. «А Аверченко во мраке точно уж пополз под стог, к удивлению собаки слопал сена целый клок!»
— Вы, так называемые поэты, — продолжил Аверченко, — напоминаете мне простых наборщиков, только в кассе перед вами лежат не отдельные буквы, а готовые, захватанные многочисленными руками рифмы. Написал, например, «стол», и уже пальцы тянутся к готовому «пол», «весна» — «луна». В стихах должна быть виртуозность… Вот я вам сейчас задам рифму, так вы у меня зачихаете! Предлагаю гонорар — за каждую строчку — рюмку коньяку… Только я уверен, никто из вас и не понюхает этого коньяку…
— Ну, говори, — нетерпеливо перебил Рославлев, которому очень хотелось доказать свою виртуозность.
— Ну-с! Приготовляйтесь чихать, — произнес Аверченко, — вот вам слово — «прихоть».
— Чепуха! — уверенно сказал Рославлев. — Сейчас будет готово, а ты готовь коньяк.
Все наклонились над листами бумаги, придумывая рифмы.
— Есть! — весело воскликнул Рославлев и прочел:
У Кузьмы такая прихоть,
Если он напьется пьян,
То начнет по шее «быхать»
Всех своих односельчан.
Все с большим изумлением взглянули на торжествующего автора.
— А что же это за такое слово «быхать»? — спросил Аверченко. — Это, собственно, на каком же языке?
— Как на каком? — в свою очередь удивился Рославлев. — Конечно, на русском! Ты не слыхал такого слова?
— Не слыхал! И уверен, что никто не слыхал… Нет такого слова.
— Есть! — уверенно отрезал Рославлев. — Если ты не знаешь, то это еще ничего не значит! Мало ли ты чего не знаешь, ты вот, например, алгебры не знаешь, а алгебра все-таки существует! Открой словарь Даля, и ты там это слово найдешь.