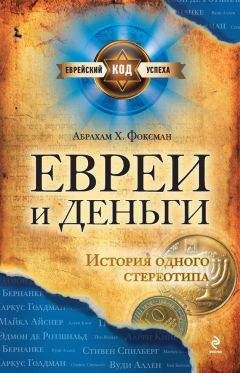Мария Спендиарова - Спендиаров
После концерта состоялся «товарищеский чай». Многие из присутствовавших обратились к Александру Афанасьевичу с торжественными речами. Их главной темой было взаимопроникновение в лице Спендиарова русской и армянской музыкальных культур.
Когда все высказались, тамада пригласил к ответному слову виновника торжества. Все взоры обратились к Александру Афанасьевичу. Он сидел неподвижно с опущенными веками и сложенными на коленях руками. Вдруг он открыл глаза, поднялся с места и оперся обеими ладонями о стол. Несколько мгновений царило молчание. Вероятно, композитор не сразу мог найти нужные слова. Потом он повернулся всем корпусом к Даниэлян и сказал медленно, скандируя каждое слово, что «никогда — нигде не слышал — своих сочинений — в таком — бесподобном — исполнении!». Юлия Ивановна Спендиарова шепнула ему на ухо: «А как же Мария Фаддеевна Тигранова, она ведь тоже исполняла твою пьесу!» Композитор встрепенулся, на лице его появилась виноватая улыбка, и, снова наполнив бокал, он выпил за здоровье смутившейся пианистки.
«Эриванские этюды»
Уже цвела акация, пробуждая воспоминания о далеком детстве, когда, покинув Тифлис, Спендиаров вернулся в Эривань.
Становилось жарко. Кончились переходные экзамены. Прекратились частные уроки иностранных языков, которые давали дочери Спендиарова, чтобы пополнить бюджет семьи. Александр Афанасьевич отправил девочек в Судак, а сам остался на лето в Эривани. Он задумал музыкальное произведение, навеянное первыми впечатлениями об Армении.
Композитор готовился к нему исподволь, как бы мимоходом прислушиваясь к армянским напевам, ловя их то под окнами народных музыкантов, то на веселой вечеринке, где, следуя причудливому ритму, грациозно танцевали эриванские девушки.
«Судя по тому, что я запомнил Александра Афанасьевича в высоких калошах и теплом пальто, — рассказывал руководитель восточного ансамбля К Александрян, — дело было зимой, когда, зайдя ко мне как-то вечером, он попросил наиграть на таре популярный в то время танец «Энзели». Помню, я угостил его крепким чаем с лимоном, и, расположившись с тетрадью на чайном столе, он тщательно записывал мелодию, заставляя меня по нескольку раз играть отдельные места».
Напев «Гиджас» пленил Спендиарова той же зимой. Многие эриванские современники запомнили веселое лицо Александра Афанасьевича, когда он изображал «потешного» дудукиста, под окном которого простаивал каждый вечер. Композитор раздувал щеки и подражал тембру дудука[83]. С помощью инспектора консерваторского оркестра Хайка Гиланяна он нашел потом этого дудукиста в «ашугскои конторе». Восседая в компании сазандари, тот яростно сражался в нарды.
«Как только я назвал фамилию моего спутника, — рассказывал впоследствии Гиланян, — вся контора всполошилась. Замолкли горячие споры, щелканье нардов… Музыканты гурьбой окружили Спендиарова.
Обратившись к пленившему его дудукисту — широколицему детине в черкеске и высоком картузе, Александр Афанасьевич попросил сыграть заинтересовавшую его мелодию. Надо было видеть, с какой готовностью была исполнена просьба композитора! Богатырь Каро встал рядом со своим напарником за спиной расположившегося на табурете дхолиста[84] и, прильнув губами к дудуку, раздул щеки».
«Прекрасный был человек! — вспоминал о Спендиарове старый дхолист Вано Мелоян, единственный оставшийся в живых из всего выступавшего тогда ансамбля. — Он обещал научить сазандари музыкальной грамоте, но успел только устроить в консерваторию двух-трех. Он сказал нам: «Я должен развить восточную музыку. Я должен развить восточный оркестр!» Как-то я зашел к нему в консерваторию. Он играл на рояле «Гиджас» и заставил меня подыгрывать ему на дхоле. Я спросил его, почему его так интересует дхол? Он ответил: «Ритм мне нужен, понимаешь? Ритм армянской музыки». Потом он часто приходил к нам в контору. Мы играли ему «Свадебный туш» и другие эриванские вещи, а он сидел среди нас за столом, положив перед собой шляпу и повесив палку на спинку стула»[85] *.
Разгоралось лето. В комнате Александра Афанасьевича было так тихо, что явственно слышался скрип пера. Сидя за столом у глубокого подоконника, он работал над оркестровкой «Алмаст». Со двора доносились приглушенные голоса меликагамаловских домочадцев, сквозь небольшое окно виднелась унылая Цицернакаберд[86]. Ее однообразие подавляло Александра Афанасьевича. Нередко он оставлял работу и выходил за ворота, чтобы взглянуть на Арарат, возникавший, казалось, из глубины неба.
«Мне пришла в голову мысль устроить Александра Афанасьевича в епархиальном (епископском) доме, — рассказывал близкий друг Спендиарова архитектор Александр Иванович Таманян. — Балкон этого дома, стоящего на высоком обрыве над Зангу, обращен прямо на Арарат. Александр Афанасьевич был] восхищен этой идеей. Он немедленно устроился там для работы и, вдохновленный дивным видом, написал «Эриванские этюды».
Композитору предоставили фисгармонию, кровать для дневного отдыха и старый ломберный стол, за которым он работал над оркестровкой «Алмаст».
Снизу доносился шум Зангу. Поднимая глаза от партитуры, Спендиаров видел перед собой древний Масис[87]. «Масис заменяет мне море», — сказал он однажды композитору Николаю Фаддеевичу Тиграняну, навестившему его в отшельничестве. «Сначала мы прохаживались по веранде, — вспоминал Николай Фаддеевич, — потом уселись за фисгармонию и стали наигрывать друг другу армянские напевы. Я почувствовал, что Спендиаров ими полон, что он теперь наш, и с этой минуты полюбил его[88].
Иногда, обычно по субботам, Александр Афанасьевич спускался в сад Иоаннеса Иоаннисяна, расположенный по ту сторону реки. Там собирались друзья поэта. Гостей усаживали на ковер, и начиналась оживленная беседа, вне которой оставался только Спендиаров — глухой ко всему, кроме «Дун эн глхен»[89], распеваемой под аккомпанемент тара[90] одним из участников кейфа.
— В то время композитор еще вынашивал в душе свое будущее сочинение. Он был рассеян, молчалив… Зато каким он стал общительным и словоохотливым, когда так долго созревавшая в нем музыка высвободилась, наконец, из связывавших ее пут и, заглушая хрипение фисгармонии, наполнила собой епископский дом!
Его одинокая «келья» стала притягивать к себе окрестных детей. Доверчиво толпясь у двери, они приветствовали его: «Барев, дядя джан!»[91]. Он приглашал их в комнату, желая проверить по их восприятию, сохранилось ли народное дыхание в его новых пьесах. Окружив фисгармонию, дети то подпевали знакомым мелодиям, то пускались в пляс. «Однажды у нас был какой-то детский праздник, — вспоминала одна из маленьких приятельниц композитора. — Спендиаров вытащил во двор фисгармонию и играл нам детские песни и танцы. «Публикой» были соседи и соседки, которые сидели тут же на низеньких скамеечках…»