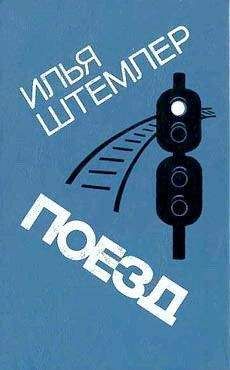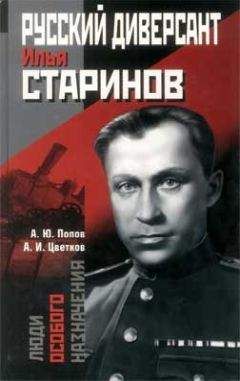Борис Тагеев - Русские над Индией
Моя мать лежала в углу сакли, лужа крови была около нее, зубы были сильно оскалены, на шее зиял глубокий разрез, а рука конвульсивно сжимала нож. Я тогда не понял, что она зарезала себя, но я понял, что совершилось что-то ужасное, и в страхе бросился назад в саклю и, забившись в угол, просидел до вечера. Я видел, как прибежал отец и стал что-то кричать; я слышал, как дядя мой упрекал отца, что он убил жену. Но я тогда своим детским умом понял, что не отец причина смерти матери, и обвинял дядю как убийцу ее.
Теперь я понимаю все, но тогда это темное дело было для меня чернее ночи. Видел я, как связали моего отца и увели. Дядя остался хозяйничать в доме. Никто на меня не обращал внимания - матери я уже больше не видел.
Через два дня у нас в городе только и было речи, как будут казнить моего отца за то, что он зарезал свою жену, и толпа народа пошла на базарную площадь.
- Ну, пойдем вместе, - сказал мне дядя, - увидишь, как твоего отца зарежут за то, что он убил твою мать. Вот и тебя также казнят, если ты такой же будешь, - сказал он.
Мне было ужасно страшно, но вместе с тем очень хотелось посмотреть, как это зарежут отца. Я видел, как баранов режут, и мне тогда только было непонятно, куда же это денется отец, когда его зарежут. Я спросил об этом дядю, но он меня выругал дураком и ударил по затылку.
На площади было много народа. Посреди возвышалось лобное место. Преступников было 30 человек; были между ними молодые и старые; в числе последних я узнал и отца. Он, понуря голову, стоял, сложив на животе связанные руки.
Пришел мулла и прочитал молитву, и вот одного за другим стали брать какие-то люди, что-то делали с ними и потом бросали их на землю. Вот и отец мой подходит к джигиту в красном халате. Взглянул я, и мне показалось, что отец глядит на меня своим добрым взглядом - мне вдруг почему-то стало его жалко, а вместе с тем ужасно хотелось увидеть, как это его зарежут.
Палач взял его за бороду, и больше я ничего не видел - его бросили, где лежали и остальные казненные. Не знаю почему, мне вдруг сделалось так страшно, что я затрясся, как в лихорадке, и, рыдая, побежал по улице.
Опомнился я у городских ворот, подумал мгновение, какая-то неестественная сила управляла мною - я вдруг решил не идти обратно и направился вперед по Маргеланской дороге. Солнце уже совершенно зашло за Алайские горы, когда я присел у дувала{69} кишлака. Я сильно утомился, голод мучил меня, но усталость взяла перевес, и я крепко уснул. Проснулся я рано утром - кто-то толкал меня в бок.
- Чего ты тут лежишь? - спрашивал меня старик с длинной белой бородою. - Откуда ты?
Я сказал.
- А отец твой где?
- Отца зарезали.
- А мать?
- И мать зарезали.
- Ах ты, несчастный, - сказал старик, - ну, пойдем со мной.
Я последовал за ним в саклю. Какие-то люди с черными бородами, какие бывают только у таджиков, сидели вокруг подноса, на котором лежали лепешки. Мне дали чашку чаю и нан{70}. Я с удовольствием утолил свой голод. Люди, бывшие в сакле, говорили по-таджикски, и я ничего не понимал, но замечал, что речь идет обо мне. Один из них дал старику денег и, взяв меня за руку, повел из сакли.
- Садись, - сказал он мне, указав на ишака, жевавшего клевер.
Я сел, а сзади меня уселся и таджик - мы отправились. Ехали мы долго по таким большим горам, что мне часто делалось страшно, и я боялся, что сорвусь и упаду в пропасть. Таджик меня не бил, не ругал, поил чаем и кормил - одним словом, обходился хорошо. Таким образом мы и приехали в Файзабад. Вот тут-то и началась моя новая жизнь.
Меня продали одному афганцу, Мусса-Мамату, который взял меня вместо сына и, когда мне исполнилось 11 лет, отдал меня в школу.
Учился я хорошо, выучился писать и читать, и вот меня мой новый отец повез в Кабул, где и определил в военное училище. Трудно было мне учиться в этой школе. Там воспитывались дети именитых афганцев, и мне приходилось переносить побои и насмешки, но я сносил все терпеливо и пробыл пять лет в Кабуле. Мне стукнуло 16 лет, и я уже был выпущен солдатом в афганскую гвардию, куда попал благодаря своему росту и наружности.
Маджир, командир полка, полюбил меня, и через год я был дофордаром, то есть унтер-офицером. Я часто ходил в гости к своему начальнику, и мы жили душа в душу. Но вот и мое сердце забило тревогу. У Маджира была дочь красавица писаная. Полюбил я ее всею силой молодой любви, и не ускользали от меня и ее долгие взгляды, когда, бывало, я сиживал вечерами у отца ее. Взял я да и признался Маджиру в моих чувствах к его дочери. Обрадовался даже старик, спросил свою Ляйлю, хочет ли она за меня замуж идти, а она только этого и ждала. Ну, и сыграли свадьбу. Эх, как счастлив-то я был! Через год у меня и сын родился - обрадовался я, что не дочь, - у нас, у афганцев, считается позором, если первенец девочка родится. А тут еще эмир мне и офицерский чин пожаловал; только ты, тюра, не говори, пожалуйста, никому, что я офицер. Прошло два года, а тут вдруг восстание вспыхнуло. Расстался я с женой и целый год воевал в Шугнане и Рошане, да Аллах милостив, остался невредим - в каких перестрелках-то бывал, и хоть бы одна пуля задела, а вот теперь попался в западню, точно волк какой. Уж умирать, так в бою, а теперь расстреляют, как собаку. Как подумаю, так просто руки на себя наложить готов, а тут еще сердце ноет, что с женой да с сыном станется...
У афганца сверкнули слезы, но он быстро оправился.
- Ну, кулдук, тюра, вижу, что меня любишь, и я тебя люблю. Узнай, пожалуйста, когда с нами покончат.
- Ничего с вами не сделают, отпустят вас домой к себе с Богом, вот и все, - сказал я.
Афганец грустно улыбнулся и ничего не возразил, и в его взгляде я прочел уверенность в своем предположении и полное недоверие к моим словам.
- Ну хош{71}, - сказал я, пожав ему руку, и отправился к себе в палатку, переполненный чувства симпатии к пленнику.
Да, к чести афганцев, о них можно сказать много хорошего, а потому я и остановлюсь на описании этого оригинального и в высшей степени интересного племени среди населения Средней Азии.
Афганцы резко выделяются среди окружающих их народностей Востока и представляют собою полный контраст изнеженному, ленивому жителю Азии.
Этот немногочисленный народ, сплоченный как бы в одну семью, проникнутую воинским духом, не поддался влиянию жаркого Востока, а строго сохранил свои обычаи и остался верным простой и суровой жизни.
Цивилизация, вносимая повсеместно англичанами в завоеванные ими страны, не произвела на афганцев того разрушающего действия на их нравственность, что в большинстве случаев мы видим в просвещенных англичанами недавно, а также давно перешедших к ним странах Азии, Африки и других частей света. Афганцы, напротив, извлекли из нее по возможности только одни хорошие качества и преимущественно обратили свое внимание на то, что касалось усовершенствования их военного дела. Они познали всю необходимость прогресса в нем, деятельно принялись за укрепление своей страны и, не щадя своих небольших средств, упорным трудом довели его до сравнительно больших размеров.