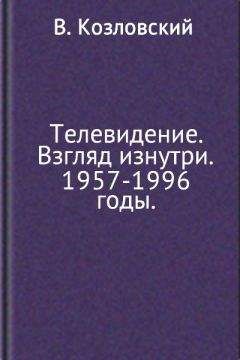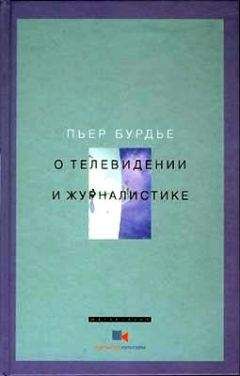Леон Островер - Петр Алексеев
— А вам, господин генерал, не случалось на вокзале пить чай и беседовать с незнакомыми людьми?
— Случалось.
— Так почему удивляетесь? Я искал комнату. Мне сказали, что там комната сдается. Люди оказались молодые, обходительные. Усадили меня, чаем угостили. Что тут удивительного?
— А Васильева знаете?
— Васильева? Васильевых многих знаю.
— Николай Васильев. Он вместе с вами работал у Турне.
— Вот этого знаю. Кажется, с бородкой… Или нет, с длинными усами. Краснобай такой.
— И вы ему никаких книжек не давали?
— А зачем я стал бы ему книжки давать? Если любит читать, пусть сам добывает.
— А брату своему Власу вы давали книжки?
— Что-то не припомню. Но, возможно, давал.
— Какие книжки давали?
— Известно какие книжки пишутся для народа. «Бова-королевич», «Ванька-Каин».
Дольше сдерживаться Воейков не мог. Он вскочил:
— Вы перестанете меня морочить!
Петр Алексеевич ответил спокойным голосом:
— Если вам кажется, что я вас морочу, то простите, господин генерал, больше ни слова не произнесу.
И замолчал.
23Как медленно ползет время!.. В камеру заглядывает белесое летнее небо. Изредка появится тучка, потемнеет вокруг — и опять знойное солнце.
Петр Алексеевич шагает из угла в угол. Его тело не теряет упругости, руки — крепости: он орудует тяжелой табуреткой, точно гирей. Но читать нечего. И вчера он не сдержался, поскандалил: требовал книг.
Его вызвали к прокурору. Августовский день, а прокурор, старенький и подслеповатый, сидит в драповом пальто.
— Чем вы, Алексеев, недовольны? — с наигранной вежливостью осведомился он.
— Книг не дают.
Прокурор окинул Алексеева добродушным взглядом:
— А ведь тебя можно было бы на все четыре стороны отпустить.
— Отпустите, господин прокурор.
Старика рассердил спокойный ответ Алексеева.
— Как тебя отпустить, когда в тебе искренности нет! — Он раскрыл «дело» и ткнул пальцем в исписанный лист: — Два раза я с тобой говорил, и до чего мы договорились? Что ты родился в году 1849 в деревне Новинской уезда Сычевского, что в Смоленской губернии… И все!
— Не все, господин прокурор. Я еще сказал…
— Все! — оборвал его старик. — Что ты мне еще сказал? Что у твоих родителей земли мало, что они тебя девятилетним на фабрику отдали? — Он захлопнул папку. — Запирательство тебя до добра не доведет. Помни, Алексеев: законы у нас строгие, но если ты чистосердечно раскаешься, расскажешь мне про студентов, которые тебя совратили, раскроешь все их шашни, то, поверь мне, старому человеку, под снисхождение тебя подведу и выпущу на все четыре стороны. Что ты делал в доме Корсак?
— Квартиру искал. Увидел билет на воротах — вот и поднялся. Мальчонка один сказал, что там дворник проживает.
Прокурор укоризненно покачал головой:
— Я с тобой, как отец с сыном, а ты со мной хитришь. Хочешь, я тебе скажу, что ты делал в доме Корсак? Ты там билет получал, чтобы поехать в Иваново-Вознесенск… Ты запираешься, а я про тебя все знаю. Ты из кожи лезешь, чтобы услужить студентам, а они нам все рассказали. Они отреклись от тебя, мужика сиволапого, а ты их щадишь. И до каторги себя доведешь. Понимаешь, Алексеев: до каторги!.. Что, тебе жизнь надоела? И за кого ты хочешь пострадать? За студентов, которые тебя же предали?
Подавляя насмешку, Алексеев смотрел в подслеповатые глаза прокурора… Ему был противен этот старик: третий раз беседует он с ним — и каждый раз с подковырцей. Сейчас билетом пугает. Билет на столе остался: легко догадаться, что кто-то собирался в Иваново-Вознесенск.
— Ну, Алексеев? — резко окликнул прокурор. — Чего ты молчишь?
— Молчу потому, что сказать мне нечего. Я все уже сказал.
Опытный прокурор понял, что ему и на этот раз не справиться с Алексеевым.
— Иди. Я прикажу, чтобы тебе книги дали.
Действительно, книгу Алексееву дали. Петр Алексеевич обрадовался было, да, увидев золотой крест на переплете, понял: библия.
Из полицейского участка Алексеева перевезли в Бутырки, в Пугачевскую башню. Камера короче, чем в полицейском участке, но такой же кусок неба в окне и та же мышиная возня под полом.
Алексеев положил себе за правило ежедневно часа два по утрам махать руками, и в этом махании он достиг того, что мог, не сходя с места, сделать более девяти тысяч взмахов. А перед сном он «отправлялся на прогулку»: из одного угла в другой. «Прогулка» длилась также два часа, и за это время Алексеев вышагивал десять километров.
В одну из бессонных ночей (спать полагалось при свете) Алексеев увидел мышь, вылезшую из-под нижнего плинтуса. Он взволновался при виде живого существа и решил «подружиться» с мышкой. От каждого своего обеда Петр Алексеевич начал оставлять у стола кусочки мяса, хлеба и, ложась на постель, смотрел в тот угол, где была норка. В дырочке появлялась острая мордочка с маленькими черными глазками. Затем серенький зверек начинал свое путешествие по камере, обнюхивая все попадавшееся на пути. Наконец зверек достигал места у стола, где была для него приготовлена трапеза.
Когда выпадали дни, что мышка не показывалась в камере, Алексееву делалось тоскливо, точно друг, назначивший ему свидание, не явился на него.
Наконец-то разрешили Алексееву пользоваться библиотекой. Он набросился на книги, читал все подряд: «Чрево Парижа» Золя и «Историю» Костомарова, разрозненные номера какого-то медицинского журнала и политическую экономию Милля. Он прочитал всю историю средних веков Стасюлевича и много других книг.
На воле он никогда столько не прочел бы, и, что важнее всего, прочитанное лучше усваивалось: этому способствовала тишина и отсутствие впечатлений.
На смену 1875 пришел 1876, но для Петра Алексеевича ничто не изменилось. Одиночная камера, короткие прогулки, книги… Промелькнула весна, отошло лето, опять холодные рассветы. Исхудал Петр Алексеевич, борода стала клочковатой, лицо покрылось желтой сетью мелких морщин, но сила из тела не ушла: ноги по-прежнему крепкие, кулаки тяжелые. Он выглядит намного старше своих двадцати шести лет, но пожилым его тоже не назовешь.
А папки разбухали: жандармы, прокуроры и сенаторы готовили «Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений».
24«Новая действительность» создана! Состряпан первый массовый политический процесс — «процесс 50-ти»! В дождливый сентябрьский вечер Петра Алексеева отправили в Петербург, в дом предварительного заключения, что на Шпалерной улице.