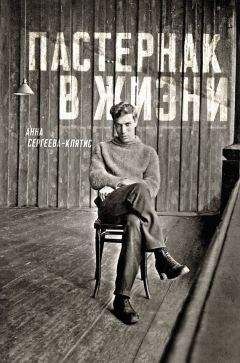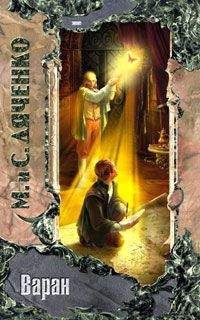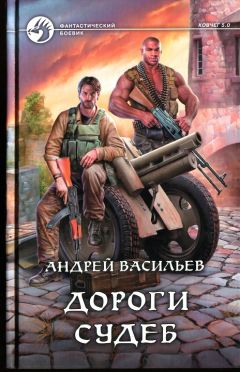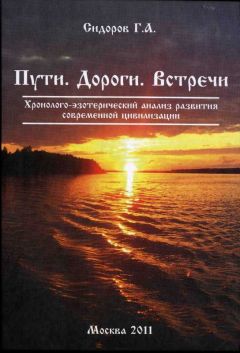Анна Сергеева-Клятис - Пастернак
Пильняк жил недалеко от Ямского Поля и Петровского парка. В его владении был целый дом, хорошо и уютно обставленный, где Пастернак любил бывать еще до разразившейся в его жизни семейной драмы. С начала февраля до начала мая 1931 года поэт прожил в кабинете Пильняка, пока хозяин квартиры находился за границей — в Америке. В апреле Пильняк вернулся, но у Пастернака сделался флюс, к этому присоединился грипп с высокой температурой, и он не смог сразу покинуть чужую квартиру после возвращения хозяина. В доме на Ямском Поле Пастернак чувствовал себя счастливым, потому что именно с этим жильем были связаны впечатления от набирающего силу романа с 3. Н. Нейгауз. В одном из писем ей он оставил такую зарисовку: «Вчера были гости, утром стол стоял, еще раздвинутый на обе доски под длинной белой скатертью, весь солнечный, заставленный серебром и зеленым стеклом, с двумя горшками левкоев, и дверь на балкон была открыта, там тоже были солнце, стекло и зелень <…> …Я пишу отсюда ради места, откуда пишу. Скоро я отсюда уеду. Давай запомним утро и обстановку и тишину дома…»{194}
Дальнейшие события опишем вынужденно кратко. Не умея разобраться в себе, Зинаида Николаевна уехала в Киев, куда на длительный срок прибыл с концертами Нейгауз. Зинаида Николаевна металась между двумя мужчинами и своими чувствами к ним и не могла принять окончательного решения. В Киеве ее метания только усилились: «Жизнь моя была мучительной. Слух о том, что я бросаю Генриха Густавовича, облетел весь Киев. Ко мне стали приходить его бывшие ученики с увещеваниями. Говорили, что я не имею права ломать жизнь такого большого музыканта… Внутреннего решения не приходило…» Даже когда Борис Леонидович уговорил ее поехать на некоторое время в Грузию, куда его позвал новый друг, грузинский поэт Паоло Яшвили, она не понимала, что судьба властно разворачивает ее в сторону Пастернака: «…Мне тогда казалось, <…> что это шаг не окончательный и я могу еще вернуться к Генриху Густавовичу»{195}.
А между тем рядом продолжалась и точно так же, если не в большей степени перекраивалась и переворачивалась жизнь Евгении Владимировны Пастернак, которая совершенно не была готова отпустить своего мужа и считать их семейную жизнь раз и навсегда завершенной. Она крайне тяжело переживала происходящее и смиряться не хотела. Для нее и сына Жени Борис Леонидович выстроил, как ему казалось, простой и во многом спасительный сценарий будущего. С огромным трудом через посредство Ромена Роллана, который обратился за содействием к А.В. Луначарскому, Пастернаку удалось добиться для своей жены и сына новых заграничных паспортов и получить визы в Германию. Борис Леонидович помнил, как целительно подействовало на Евгению Владимировну их первое посещение Германии в 1926 году, как она окрепла там физически и эмоционально, с какой новой энергией принялась обустраивать их жизнь по возвращении. И теперь, посылая жену и сына к своим родителям, он рассчитывал на сходный эффект. Прежде всего требовалось успокоиться и привести в порядок донельзя расшатанные нервы. Однако у этого плана была и другая подоплека: если в середине 20-х Евгения Владимировна приняла единственно возможное для нее тогда решение вернуться обратно в Россию, то теперь была большая вероятность, что она от такого возвращения откажется. Причин для отказа было множество: измена мужа, его сознательные действия по разрушению семейного гнезда, его неуклонное центробежное стремление, которое он от жены не только не скрывал, но всячески подчеркивал. По сути, теперь возвращаться было не к кому. Ухудшающиеся бытовые условия существования, нависающая над всем обществом зловещая угроза расправы, которая особенно чувствовалась после 1929 года, неудовлетворенные профессиональные потребности Евгении Владимировны — всё должно было натолкнуть ее на мысль об эмиграции. Существовала возможность отправиться из Германии в Париж и там заниматься живописью гораздо свободнее и полнее, чем это могло получиться в Москве при самом лучшем раскладе. Впрочем, все обстоятельства, видимо, обсуждались, и вполне открыто: Пастернак обещал жене, что приедет к ним через год. Подсознательно же он, вероятно, имел в виду и то немаловажное препятствие, которое пока стояло непреодолимой стеной между ним и Зинаидой Николаевной, — неразрешимый в начале 30-х годов «квартирный вопрос». В случае отъезда Евгении Владимировны две комнаты в квартире на Волхонке (брат с семьей в это время переехал в новую квартиру) освобождались. Нужно, однако, понимать, что «планом» действия Бориса Леонидовича в этот период можно назвать только с очень большой натяжкой. Всё отдавалось им на волю случая, происходило спонтанно, без предварительного обдумывания, что ни в коем случае нельзя считать безответственностью. В этом сказывалась характерная черта пастернаковского мировоззрения — доверие к жизни, ее свободной и неконтролируемой стихии, ее творческой энергии. Движимый сложным комплексом мотивов, Пастернак 5 мая 1931 года проводил жену и сына на вокзал, откуда они отправились в Берлин. Сын вспоминал позднее: «Папа провожал нас на поезд на такси — таком же стареньком “Рено”, как пять лет назад. Это было последнее домашнее проявление прежней близости. Ему хотелось доиграть до конца со всей возможной лирической теплотой и любовью нашу семейную жизнь. Вероятно, он не верил в наше возвращение»{196}. Перед отъездом он всячески подбадривал жену, демонстрируя ей важность и ценность пережитого вместе, убеждая в неизменности своего чувства к ней. Эта демонстрация была одновременно и правдой, и ложью. Правдой в том поэтическом и в высшей степени неземном смысле, какой Пастернак закладывал и в стихотворения этого периода:
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.
В жизненном же, человеческом смысле эту позицию было очень трудно принять, особенно той женщине, которая всем своим существом только и стремилась вновь обрести утраченное. В одном из первых писем из-за границы Евгения Владимировна упрекала мужа в непоследовательности: «Я уехала из Москвы, я помнила твои слова — ты и Женичка моя семья, я не заведу себе другой, Зина не войдет в мою жизнь — эта радость — весна, с которой я не могу сейчас бороться, — и помнила, как ты ходил в последний день со мной по улице, как ты всем и каждому говорил — это моя жена, как будто жизнь наша начиналась вновь, ты надел кольцо в тот день. Ты незадолго до моего отъезда говорил мне, что возвращаешься домой, и на вопрос мой: “потому ли что я уезжаю”, — ответил, что нет, — это было в тот день, когда была Сарра Дмитриевна[19]. Я не писала тебе, я не хотела тебе мешать, я думала, что где-нибудь, на каком-нибудь углу ты найдешь нас снова и напишешь, что без нас тебе жить трудно, и очертя голову я брошусь к тебе навстречу. Я так глубоко верила (потому что любила тебя и нашу жизнь с Женичкой), что не может быть, чтоб ты не вернулся, так уже давным-давно при Шуре и Ирине я расставалась с тобой, веря, что ты от нас не уйдешь. Зачем ты сейчас говоришь, что наша жизнь для меня была пыткой, зачем сейчас уверяешь в этом других, было многое и разное, но связь наша, дружба и жизнь крепла. Ведь проще всего вспомнить последнее лето, — все вначале были несчастны, я была спокойна, а когда ты приехал, счастлива, люди ворвались в нашу жизнь — ты ее не защитил»{197}.