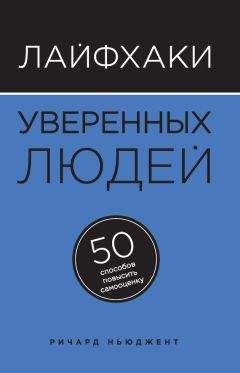Самуил Маршак - В начале жизни
В классе было тихо. Слышался только скрип наших перьев да спокойные шаги Николая Александровича, который, заложив руки за спину, медленно прохаживался по классу.
Время от времени все мы невольно прерывали работу и с любопытством поглядывали на Степу, учившего урок. Это было невиданное зрелище! Он сидел, не подымая головы, подперев кулаками пухлые щеки и зажмурив свои и без того узкие, обычно такие лукавые, глаза. Наши взгляды, видимо, смущали его. Он так любил козырять перед нами своей бесшабашной удалью, а теперь сидел тихо и смирно, как сдавшийся в плен и обезоруженный наездник-головорез.
Урок приближался к концу. Один за другим отдавали мы свои тетрадки Николаю Александровичу или сами несли их на кафедру. Окончив работу, мы уже не отрывали глаз от Степы.
В книгу он больше не смотрел, а занимался самыми разнообразными делами: то с трудом вытаскивал из тесного переднего карманчика брюк новенькие черные часы, то засовывал их обратно и принимался тщательно оттачивать карандаш.
Эх, не попадись он вчера так глупо, не пришлось бы ему сейчас сидеть без дела. Не теряя ни одной минуты зря, он бы ловко и быстро орудовал испытанным арсеналом своих шпаргалок. Да уж теперь ничего не поделаешь! Сам свалял дурака - поддался на уговоры этого хитрого халдея, который целый месяц прикидывался блаженным только ради того, Чтобы вернее поймать на удочку бедного Степу.
Но вот Николай Александрович подошел к парте, за которой сидел Чердынцев, и остановился, вопросительно на него поглядывая.
Чердынцев молчал.
- Ну, как дела? Надеюсь, вы готовы? - спросил Поповский.
Степа только ниже опустил свою круглую, коротко остриженную голову.
- Что же вы молчите? Я спрашиваю, можете ли вы уже отвечать?
Степа тяжело встал с места и, глядя куда-то в сторону, сказал сквозь зубы:
- Не могу...
- Но хоть что-нибудь вы за этот час приготовили? - все еще с надеждой спросил Поповский. - Ну, страницу, полстраницы?
Степа как-то странно надулся, засопел, и вдруг неудержимые слезы горохом посыпались у него из глаз. Он заревел, как маленький, - всхлипывая, захлебываясь, вытирая глаза кулаками.
Николай Александрович даже испугался.
- Что с вами, Чердынцев?..
- Не могу, Николай Алексаныч! Ей-бо, не могу!
- Чего не можете?
- Ничего запомнить не могу!
- Но ведь вы же не тупица, Чердынцев! Подумать только, сколько труда, хитрости, изобретательности тратили вы на то, чтобы несколько лет обманывать своих учителей!.. А на честную работу вы не способны?
- Не способен! - едва слышным шепотом сказал Чердынцев.
БЕЗ СТАРШИХ
В те дни, когда на пустынном заводском дворе я водил палочкой по земле, переходя от одного построенного мною городка к другому и сочиняя историю некоего странствующего героя, я и не предполагал, что эта игра была как бы предчувствием моей собственной судьбы.
Разница была только в том, что мой герой выходил и? тлуши и безвестности в большой, полный событий мир, уже достигнув зрелого возраста, а в моей жизни такой перелом произошел гораздо раньше.
После переселения нашей семьи с окраины в город мы не прожили на месте и двух лет, как стали готовиться к новому переезду - и не куда-нибудь, а прямо в столицу, в Питер, в Санкт-Петербург! Это не было осуществлением широких планов нашего отца. Просто ему предложили в Петербурге работу на небольшом, еще только строившемся в то время заводе.
Я и мой старший брат уже успели мысленно обойти все улицы столицы, известные нам по Пушкину и Гоголю, когда выяснилось, что нам обоим придется остаться в Острогожске, так как нет никакой надежды добиться нашего перевода в какую-нибудь из петербургских гимназий.
Мать утешала нас тем, что в Питер мы будем ездить два раза в год - на летние и зимние каникулы. Остальное же время будем жить в Острогожске, у дяди.
И вот, как мы когда-то мечтали, к вокзальной платформе шумно подкатил поезд, но увез он из Острогожска не всю нашу семью, а только мать, сестер и маленького брата (отец был уже в это время в Петербурге).
Впервые я и старший брат были оторваны от большой и дружной семьи. Мы оба очень скучали, но в то же время у нас было какое-то новое, непривычное ощущение свободы и самостоятельности. Без старших мы зажили почти по-студенчески. Правда, брат считал своим долгом следить за тем, чтобы я не слишком поздно ложился спать и не пропускал уроков. Это давалось ему нелегко, так как он был по горло занят своими собственными уроками - всякими там греческими глаголами и тригонометрическими формулами - и к тому же в первый раз в жизни влюблен.
Я знал или, вернее, догадывался об этом только по обрывкам его разговоров с товарищем. Меня в свою тайну он не хотел допустить - должно быть, по привычке все еще считал меня маленьким.
Он был так скромен и застенчив, мой старший брат, что даже не пытался познакомиться с веселой, смуглой и кудрявой гимназисткой, завладевшей его сердцем. Он считал себя вполне счастливым, если ему удавалось бросить на нее беглый взгляд в городском саду или на улице.
Мне было обидно, что от меня что-то скрывают, и я решил доказать брату и его товарищу, что давно уже вышел из младенческого возраста.
Я познакомился с двоюродным братом черноглазой гимназистки (он был одним классом старше меня), потом и с нею самой - и очень скоро получил приглашение на ее именины.
Трудно передать, как был ошеломлен мой брат, когда я как-то вскользь, мимоходом, сказал ему, где собираюсь провести вечер.
Карманных денег у нас с ним было очень мало, и все же он купил мне ради этого торжественного случая крахмальный бумажный воротничок, а потом - к вечеру - нанял для меня за гривенник извозчичью пролетку с двумя великолепными фонарями.
Помню, с каким грохотом покатил я по булыжной мостовой, а брат остался на перекрестке, грустно и задумчиво глядя мне вслед.
Вернулся я в этот вечер довольно поздно - часов в двенадцать, - но брат еще не спал.
Долго и осторожно расспрашивал он меня обо всех, кто был на именинах, стараясь не показать виду, что больше всего его интересует сама именинница.
Уже засыпая, я отвечал ему нехотя и невпопад.
Таким допросам подвергал он меня каждый раз, когда мне случалось бывать в этом доме. "Ну, а она что? А ты что? А он что?"
Скоро я стал настолько своим человеком в семье моих новых знакомых, что мне уже ничего не стоило намекнуть, чтобы туда пригласили и брата.
Он долго готовился к этому посещению, гладил брюки, чистил ботинки себе и мне.
Но на первых порах визит был не слишком удачен. Брат стеснялся, молчал, а на черноглазую гимназистку, которая и всегда была смешлива, ни с того ни с сего напал такой бешеный порыв беспричинного смеха, что она только кусала губы, и на ее густых ресницах дрожали крупные капли слез. Мать укоризненно поглядывала на нее, а брат мой краснел и хмурился, видимо, подозревая, что виновником этого бурного веселья был именно он.