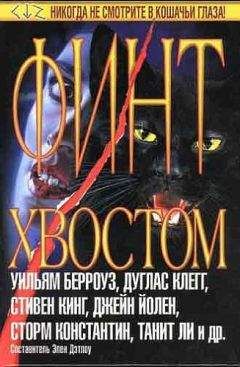Любовь Скорик - Произведения
Завтрак — божественный. Из деревни знакомые приехали, мёд привезли на продажу. В благодарность за ночлег налили нам полную кружку. И теперь я наслаждаюсь: ароматный, пышный, ещё горячий, самый вкусный в мире мамин хлеб, свежий, цвета солнца мёд и холодное, в отпотевшей глиняной кринке молоко. Ну можно ли придумать лакомство щедрее? Ведь ещё жил в памяти вкус драников на рыбьем жире, прогорклого жмыха и зеленоватого, почти прозрачного обрата.
После завтрака отправляюсь на базар. Это — моя всегдашняя обязанность и, пожалуй, самая нелюбимая. И потому, что там в толчее мне частенько оттаптывают ноги (обутки-то — только для школы да кино), и потому, что знаю: как всегда, придётся долго прицениваться, отчаянно торговаться и даже ругаться. Выйдешь оттуда опять уставшая, охрипшая, сердитая. Весь день этим базаром испортишь! Но в тот день все покупки сладились как-то удивительно удачно. У меня даже образовалась маленькая экономия — как раз на мороженое. Вообще-то я всегда жалела тратиться на такую глупость, да ещё — только для себя. Но тогда я позволила себе эту роскошь. Для полноты счастья.
Однако оказалось, что и этим тот день не исчерпал своей щедрости. Неожиданно меня отпустили на речку купаться! Счастья выше этого я уже не знала. Проклятущая малярия каждый раз требовала за это расплаты очередным жестоким приступом. В тот день мне было дозволено искупаться. Конечно, со всяческими оговорками: только недолго, и далеко не заплывать, и через пять минут выходить греться на солнышке, и выпить для профилактики две таблетки акрехина.
Ах как помню я реку того дня! Смоляной густой запах ошкуренных брёвен — плоты занимали сплошь весь берег. Горьковато-сладкая прель мокрых опилок — брёвна распиливали прямо у реки. Манящий весёлый многоголосый речной говорок: стук вальков — на плотах полно баб, стирающих бельё, звон пил, плеск вёсел, визг купающейся детворы. Обычно, жгуче завидуя, я наблюдала речку со стороны. В тот день я сама стала частицей реки, её малой капелькой.
Вот какой выдался тогда сказочный день! Какой щедрый! Как хотелось и мне быть такой же доброй и милосердной! Меня просто распирало от нетерпения вот сейчас же, немедля оделить всех вокруг радостью, каждого наградить, одарить. Конечно, вряд ли я могла тогда объяснить и высказать то, что переполняло мою детскую душу. Да вряд ли это и было нужно. Просто радость переполняла меня и мне было необходимо поделиться своим счастьем.
Я шла домой с реки. Солнце только-только, перевалило на закатную половину неба, не скупясь изливало тепло и свет. В белой от зноя высоте не заблудилось ни малого облачка. Ничто не предвещало, что это были последние светлые минуты того сказочного дня.
Я уже подходила к своей калитке, когда вдали, в самом начале нашей улицы, возникла странная серая масса. Была она бесформенной, словно сгустившееся облако пыли, неотвратимо приближалась и на расстоянии веяла холодом. Ещё до того, как разглядела, я угадала в этой массе толпу людей. Только людей особых, совсем отличных от других, которых видела и знала — эта их особость ощущалась издали. Они пожухли от долгой дороги. Пыль укрывала их одежду и лица. Волосы были жёстки и землисто-серы. Усталость пригибала людей к земле. Но не это было в них главным. Главным было выражение лиц и глаз, точнее — полное отсутствие в них всякого выражения. Будто не видели они ни этого солнечного дня, ни нашей улицы, ни встречных людей. Будто всё это их никак не касалось. Словно были это и не люди вовсе, а лишь их вечерние сумеречные тени.
Эта серая, безликая, безмолвная, отрешённая от всего мира масса двигалась прямо по дороге. Надо сказать, что улица наша — это кусочек оживлённого сибирского тракта, по которому машины обычно идут нескончаемой вереницей. Дважды в день — ранним утром и на закате — на дороге поднимался переполох. Шоссе запруживало стадо. Пропылённые нетерпеливые полуторки напирали, но упрямые бурёнки не желали уступать им дорогу. Рёв коров мешался с машинными разноголосыми гудками. Шофёры, высунувшись из кабин, выкрикивали весьма выразительные словеса пастуху и его рогатым подопечным. Сейчас движение на дороге было совершенно парализовано. Однако никто не сигналил и не ругался. Машины на ближайшем же перекрёстке спешно сворачивали в проулок, водители безропотно отправлялись кружным путём.
Странная толпа была опоясана редкой цепью военных с автоматами. И хотя были те военные так же усталы, пропылены и измучены дорогой, в них сразу угадывались обычные, как и мы, люди, чем-то абсолютно отличные от тех, что шли под их присмотром.
— Арестанты!
Наверное, кто-то произнёс это, потому что сама я не смогла бы об этом догадаться. Да и не подозревала до того, что знаю это слово. Но тогда я почему-то сразу поняла, что оно означает, и стало мне в жарком дне очень зябко.
Один из конвоиров, должно быть старший, дал команду. И вмиг вся толпа сшагнула с дороги и села. Сразу, враз — словно была единым организмом. На обочине кое-где ещё стояла вода от ночного дождя, земля была сырая и грязная. Но я не заметила, чтобы кто-нибудь выбирал себе место почище, посуше. Садились не глядя, куда придётся, с тем же безразличием, что и шли. Стоять остались только конвоиры. Среди арестантов были уже старые и совсем ещё молодые. Почти все — мужчины. Женщин всего несколько.
Не знаю, когда всё это успела разглядеть. Потому что смотрела-то я только на одного. Ветхозаветный старик, должно быть самый древний из всех, когда-либо мною виденных. Наверное, он давно уж начал постепенно уходить из этого мира и наполовину успел изойти, истаять. А не был прозрачным только потому, что тело его облачала какая-то одежонка. Волосы сизым лёгким дымком клубились вокруг головы и ниспадали на плечи. Клокастая пепельная борода, несоразмерно большая, казалось, тяжестью своей пригибала к земле лёгкое иссохшее тело. Косматые сивые брови затеняли глаза, от чего те казались огромными. Они смотрели внутрь и в то же время — будто видели вокруг что-то, от других сокрытое. Мне казалось, что ожила одна из бабушкиных икон.
Арестанты раскрыли котомки, которые я раньше у них не приметила, и стали есть. Все, кроме этого старика. Почему он не ест? Может, на самом деле — святой? Или, замаливая грехи, дал обет голодания до конца дней своих? Сразу вспомнились бабушкины истории про великих грешников и искупление ими грехов. Или вправду старик уже потихоньку уходит из жизни, и потому вовсе не нужна ему еда… И вдруг меня пронзило: да потому он не ест, что есть ему нечего! Нет у него ничего. У всех вон имеются котомки, а у него — нет. Влажная земля под моими ногами стала вдруг горячей, как угли. Я вихрем сорвалась с места.