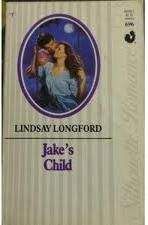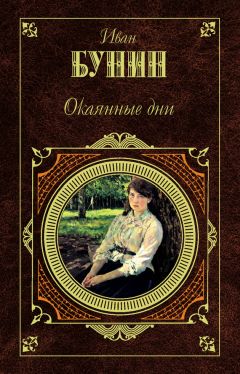Иван Бунин - Устами Буниных. Том 1. 1881-1920
Жить мы уже стали кварталами. Развлекаться — только литературными «Средами», которые после изгнания из «Кружка» происходили в воскресенье в приютившем их «Юридическом Обществе» на Малой Никитской.
В начале мая Ян вместе с Ю. И. Эйхенвальдом1 ездили в Тамбов и Козлов, где устраивались «Бунинские вечера», откуда они привезли окорока, муки и круп, а Ян еще твердую и непоколебимую уверенность, что нужно уезжать, и как можно скорее, на юг, где с воцарением Гетмана большевики были прогнаны. Его поездка дала ему подлинное ощущение большевизма, разлившегося по России, ощущение жуткости и бездонности.
К хлопотам и сборам в связи с отъездом я относилась пассивно. Все делал Ян. […]
По совету опытных людей Ян решил ехать через Оршу. Ему обещали в санитарном поезде устроить проезд. Была пора обмена пленными. И довольно часто из Москвы уходили эшелоны с немцами. […]
Мы звали с собой ехать Юлия Алексеевича, но он решил ждать выздоровления Н. Ал. П[ушешникова], который тоже намеревался приехать к нам. […] Почему не поехал Юлий Алексеевич? Трудно сказать. Вероятно, и он, несмотря на свой пессимистический ум, не представлял, до чего могут довести страну большевики и до чего они упрочатся. […] Кроме того, у него была квартира, были книги, конечно, если бы он уехал, то квартиру потерял бы. […]
В четверг утром 23 мая я, наконец, услыхала давно жданные, но все же для меня жуткие слова: «Поезд № такой-то отходит сегодня в 5 часов пополудни, в три часа вы должны быть на вокзале. […]»
[Эти воспоминания В. Н., как и ее записи, сделанные во время пути (листки, вырванные из записной книжки, исписанные карандашом) датой отъезда называют 23 мая.
В «Розе Иерихона»2 Бунин писал, что Москву он покинул 21 мая 1918 года. Думается, что эта дата основывается на другом источнике, а именно дневничке-конспекте Веры Ник. Записи, относящиеся к отъезду из Москвы, более позднего, судя по почерку, происхождения, чем все другие. Вера Ник., видимо, по памяти заполняла этот пробел и, несмотря на свое исключительное внимание к датам и прекрасную память, ошиблась, а может, просто описалась.
Немногочисленные записи этого времени, очевидно, стилистическая переделка путевых заметок Веры Николаевны. Они написаны чернилами, почерком Бунина:]
25 Мая 1918 г. (старый стиль).
11 часов утра (по «нов[ому] времени»), Орша.
Вдоль полотна ж[елезной] д[ороги] досчатые шалаши, в них беженцы из России, возвращающиеся на родину, на Украину.
Мы третий день в пути. В Москве приехали на Савеловский вокзал в 3 ч. дня, 23-го, провожал Юлий, простившийся с нами на подъезде. В поезд сели только в 7 ч. — раньше отправляли «пролетарских» детей на каникулы в Саратовскую губ. — затеи Луначарского. С Сав. вокзала мы тронулись только в час ночи, а с Александровского — в 3 ч. Спать пошли только в 4 — до того сидели с доктором этого санитарного поезда, пили тминную водку3. В Вязьме были в 3 ч. 24 мая и стояли там до вечера. В Смоленск прибыли рано утром 25-го, откуда тронулись в 5 утра. В Орше стоим уже 3 часа, не зная, когда поедем дальше.
26 мая.
Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. мы на «немецкой» Орше — заграницей. Ян со слезами сказал: «Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!» Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по большевицки.
Время здесь уже нормальное.
Немецкий пост, купил у немцев бутылочку кюммеля. За завтракам и обедом у нас в поезде был помощник коменданта станции, немец 23 лет.
Едем на Жлобин.
27 мая (9 июня). Воскресенье.
Утром Минск. Серо, скучно. Узнали, что поезд пойдет на Барановичи. Из поезда пришлось непосильно тащить вещи на другой, Александровский, вокзал — больше версты. Помогли 2 больных солдата.
[Путевые записи Бунина на этом кончаются. Следующая запись касается Киева. О продолжении пути говорится в заметках Веры Николаевны:]
[…] На вокзале [т. е. Александровском вокзале в Минске. — М. Г.] выпили кофе с миндальными пирожками. Рядом сидели два студента из Киева, кот[орые] дали нам сахару и рассказали о взрыве. От коменд[анта] станции, немца, я узнала, что нам нужно ехать на Виленский вокзал. […] На вокзале мы узнали, что нужно взять пропуск для получения билетов на выезд. Поехали за разрешением, на главной улице в каком-то большом доме у подъезда стоят пруссаки и жаждущие выехать обыватели.
Когда мы поднялись наверх и прошли мимо немецких часовых и, наконец, попали в комнату, где что-то писали и чего [-то. — М. Г.] ожидали, нас охватило отчаяние, т. к. выяснялось понемногу, что пропуски выдаются с большим трудом, что нужно коменданту подавать прошение, написанное на немецком языке. […]
Ян был взбешен, расстроен, прямо не знал, что делать. Я все думала, все обращалась то к тому, то к другому, и получала в ответ «keine Zeit», довольно грубым тоном.
Вдруг мы увидели сестру милосердия, в кожаной куртке и пенснэ. Когда она узнала, в чем дело, она выразила готовность помочь, сказав: «Да кто же вас не знает, Ив. Ал.». Она сказала немцам, кто Ян, и те согласились дать нам пропуск. […] в конце концов мы получили пропуск и, поблагодарив сестру, отправились на вокзал. […]
Затем мы сели обедать, и вдруг Ян говорит: «Да это Вера Инбер4 идет». Мы раскланялись, они подошли к нам. Оказывается, она проехала с датским посольством. В Орше ее чуть было не вернули обратно в Москву. Она едет в Одессу.[…]
Билеты нам продали в III-ий класс. […] Ян был мокр, ветер гулял по вагону. Когда пошел контроль, я попросила их, нельзя ли за хорошую мзду перевести нас во второй класс, и он быстро согласился. Они перенесли наши вещи и посадили нас в просторное купе, где уже сидело 2 польских офицера, инженер-поляк и какой-то усач. […]
[Без даты:]
Сидим на палубе5. Как хорошо. Легкий ветерок, солнце. […] Мне только жаль оставшихся в Московии. Но Ян долго не позволяет быть на воздухе и сейчас мы пьем пиво и едим удивительно хорошее сало. Он повеселел. Много говорит. […]
Седьмой час, мы где-то стоим. После грозы в воздухе разлилась приятная прохлада. Чувствуем сильную усталость и очень рады, что плывем на пароходе. В вагоне могла быть такая же теснота, какая была и вчера, когда в наше купэ ввалилось человек 8 офицеров польского легиона со своими пожитками, занявшими все пространство на полу и целую верхнюю лавочку. […]
[Заметки В. Н. обрываются. Возвращаюсь к записям Ивана Алексеевича:]