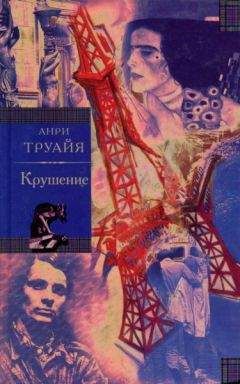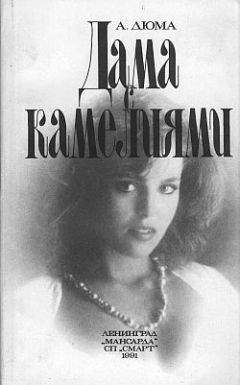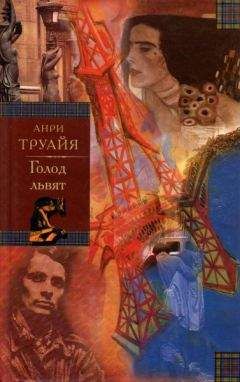Анри Труайя - Александр Дюма
Седьмого февраля Дюма осторожно известил Мари-Луизу о намеченных им переменах. После чего, воспользовавшись случаем, сообщил заодно о том, что пять лет назад стал отцом маленького мальчика, которого тоже назвали Александром. Рада ли она была тому, что оказалась бабушкой? Не обиделась ли на то, что сын так долго скрывал от нее существование внука? Ошеломленная, едва дыша, с полными слез глазами, Мари-Луиза, по обыкновению своему, прижала руку к сердцу. Но, как и всегда, не способна оказалась упрекнуть сына в чем бы то ни было. Если он так долго умалчивал о своем отцовстве, значит, у него были на то веские причины. И поскольку мать продолжала безмолвно стоять перед ним, Александр кинулся к ней сам, приласкал, утешил, как мог, расцеловал и… оставив под впечатлением ошеломляющей новости, поспешил на последнюю репетицию.
Сидя в партере, он наслаждался, следя за ходом действия своей пьесы. Актеры играли убедительно. Ни одной лишней реплики. Роскошные костюмы, великолепные декорации, созданные Сисери, историческая точность во всем, вплоть до мельчайших деталей. От всего этого рождается ощущение подлинности всего происходящего, даже самые взыскательные критики не найдут, к чему придраться.
Пока Александр обдумывал возможные поправки, которые должны были бы усилить воздействие одной из сцен, слуга, тихонько проскользнувший в зал, пробрался к нему между кресел и сказал, что у госпожи Дюма, когда она уходила от Девиоленов, где была в гостях, закружилась голова, она упала на лестнице и к тому времени, когда он сам выходил из дома, все еще не пришла в сознание. Резко вырвавшись из плена театральных миражей, Александр мгновенно забыл о драме «Генрих III» и вообще обо всем на свете, кроме своей личной драмы. Не на нем ли лежит ответственность за недомогание Мари-Луизы? Не его ли запоздалое признание насчет ребенка так ее потрясло? Не умрет ли она по его вине накануне триумфа, который ему так хотелось с ней разделить?
В безумной тревоге он бросился к Девиоленам и увидел там мать полулежащей в большом кресле. Она узнала сына, но не смогла выговорить ни слова. Мари-Луизе сделали ножную горчичную ванну – никакого действия: левая половина тела осталась парализованной. Доктор Флоранс, постоянный врач Французского театра, которого Дюма спешно вызвал к больной, пустил ей кровь. Язык Мари-Луизы слабо зашевелился во рту, она забормотала отрывки непонятных фраз. Шансы на выздоровление были, увы, невелики.
Первым делом Дюма и его сестра сняли свободную квартиру в том же доме, где жили Девиолены, на углу улиц Сент-Оноре и Ришелье, и устроили там импровизированную постель для больной, расстелив рядом, прямо на полу, матрасы для Александра и Эме, которые решили ни на шаг не отходить от матери.
Доктор Казаль, друг семьи, сменивший доктора Флоранса, всю ночь провел у изголовья Мари-Луизы. К утру появилась надежда: если только не случится нового удара, объявил врач, больная будет жить. Но в каком состоянии? Этого он пока с уверенностью сказать не мог. Александр был удручен и подавлен. Если Мари-Луиза утратит ясность ума, сможет ли он любить ее так, как прежде? Еще вчера она была его наперсницей, его сообщницей, его совестью, неужели ему отныне придется видеть в ней всего лишь напоминание о прошлом? Неужели их пара навсегда распалась? Друзья окружили Александра трогательным участием. Один из них, Эдмон Альфен, сын крупного ювелира, прислал ему кошелек с двадцатью луидорами, но Дюма вернул деньги, оставив себе лишь кошелек.
Теперь все его мысли были заняты тем, как сделать приятнее последние дни жизни матери, дав ей возможность хотя бы издали приобщиться к его успеху. Конечно, она не сможет присутствовать на первом представлении «Генриха III», но, если отклики будут такими восторженными, как он рассчитывает, она сможет навеки закрыть глаза, не беспокоясь за будущее сына. Стараясь заручиться поддержкой со всех сторон, он осмелился, даже не попросив аудиенции, явиться к герцогу Орлеанскому. Едва войдя, он принялся умолять его высочество завтра прийти на премьеру, которая обещает быть шумной. Герцог, слегка удивившись, с улыбкой ответил, что не сможет быть в театре, поскольку завтра у него званый обед, на который он пригласил около тридцати иностранных принцев. Но Александр не отступал. Теперь он предложил его королевскому высочеству начать обед на час раньше, в то время как он сам на час задержит начало премьеры. Кроме того, он оставит для гостей его высочества все ложи бенуара, чтобы они могли, вкусив радостей застолья, затем насладиться представлением. Герцога предложение позабавило, и он согласился. Однако вполне возможно на самом деле, что бы ни писал Дюма в своих мемуарах, договоренность между герцогом Орлеанским и Французским театром была достигнута раньше, а не накануне премьеры. Если же герцог действительно принял это приглашение, сделанное в последнюю минуту, дело было вовсе не в смелости и таланте Дюма, а в том, что его высочеству нравилось выставлять себя защитником либеральной молодежи.
10 февраля 1829 года, проведя весь день у изголовья матери, все еще лежавшей без движения, с наступлением вечера Александр отправился в театр, где за несколько часов должна была решиться его судьба. Молодого человека терзали одновременно и горе сына, и мучительная тревога автора – не много ли это для одного? Прижимаясь к стенам, словно преступник, он пробрался в маленькую ложу, устроенную прямо на сцене. Вторую ложу заняла сестра, пригласив туда Буланже, Виньи и Гюго. Вскоре зал заполнился публикой, послышался приглушенный шум, напоминавший морской прибой. Ни одного свободного места. Билеты выхватывали из рук у перекупщиков, не глядя на цену, чуть ли не дрались из-за них. В ложах, отведенных гостям герцога Орлеанского, красовались чужеземные принцы, увешанные орденами. В остальных ложах разместились все парижские аристократы, все дипломаты и все известные политики. Женщины с обнаженными плечами, с диадемами на головах, переливались драгоценными камнями и поблескивали стеклами лорнетов, разглядывая законодателей мод и светских львов.
Наконец дали сигнал, занавес поднялся, со сцены в партер потянуло сквозняком. Представление началось. Экспозиция показалась несколько затянутой, но несколько особенно удачных реплик были встречены аплодисментами.
В антракте Александр сбегал домой узнать, как чувствует себя матушка. Сиделка его успокоила: госпоже Дюма стало лучше, она задремала. К тому времени как он вернулся в театр, второй акт уже начался, и зал, как ему показалось, был совершенно захвачен действием, развивавшимся все стремительнее. А в третьем акте, когда герцог де Гиз ворвался в спальню жены и, стиснув ей руку латной рукавицей, заставил написать записку Сен-Мегрену, вызывая его на роковое свидание, по рядам прокатилась волна испуга. Эти решительность и грубость, этот женский крик боли были столь непривычными на сцене, что одни зрители возмутились, а другие захлопали. Вложив в уста отчаявшейся герцогини восклицание: «Генрих, мне больно!.. Вы причинили мне чудовищную боль!» – Александр даже представить себе не мог, как подействуют на публику, привыкшую к напыщенной декламации, эти простые, будничные, самые обычные слова. По восхищенному шепоту, которым была встречена его смелая находка, он понял, что одной этой фразой выиграл партию. Теперь окончательно покоренный зал с нетерпением дожидался, чтобы сработала западня, расставленная герцогом де Гизом. Александр еще раз сбегал домой, чтобы поцеловать глубоко спящую матушку, сожалея о том, что она не может разделить с ним радость, – и вот он уже снова сидит в своей маленькой ложе, прислушивается к каждому шепоту и шороху, доносящимся из зала, заполненного толпой незнакомцев, которых он поклялся завоевать. И завоюет!