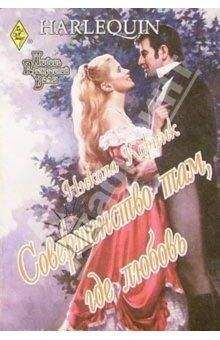Ксения Куприна - Куприн — мой отец
Нежно мы с папой тебя вспоминаем, он скучает очень.
Целую тебя, мой воробушек.
Твоя только Мама.
Ничьи, ничьи, ничьи, ничьи, ничьи, только твои
А. и. Е. Куприны.
Слушай своих добрых наставниц.
Строгий Папа.
И, главное, — будь здорова.
Саша».
В это время в Париж продолжали съезжаться эмигранты. У некоторых были предусмотрительно помещены капиталы за границей, и они зажили широко, сняли особняки, закатывали сногсшибательные приемы, кутили.
Приехали и писатели, художники, артисты, мелкие журналисты и бывшие государственные мужи. Некоторые приделали к своим фамилиям аристократическое «де», и даже те, у кого в России была скромная жизнь, захлебываясь, рассказывали о своих потерянных богатствах и поместьях, сами начиная в них верить. Они продавали драгоценности, вывезенные в подолах и подкладках, швырялись деньгами. Многие серьезно не устраивали свою жизнь, надеясь на скорое возвращение.
Материальное положение моих родителей было не очень блестящим, это видно из писем отца ко мне.
«…Мы с матерью пока бедствуем. Не сердись, что не можем делать тебе царские подарки. Потом опять обрастем шерстью и пухом. Тогда…
Пиши о себе, о подругах, о сестрах, начальстве, прогулках и приключениях. Я хочу, чтобы у тебя вырабатывался письменный язык.
Целую. Привет!
Твой Рара».
Я ответила отцу, после чего он прислал мне такое письмо:
«Милая Лидия Чарская!
Нет, нет… Ты лучше ее пишешь…
Дорогая Ксения Куприна!
И тоже нет. Ведь, во-первых, уже есть писатель с такой фамилией, а во-вторых, ты, конечно, выйдешь замуж, думаю, за француза, и будешь под своими романами из жизни принцесс и привидений подписывать мужнюю фамилию.
Итак: Incomparable et chère Madame Xenia de Nombrie![4]
Заявляю Вам о моих глубоких чувствах отеческой любви. Все, что Вы просите, будет, вероятно, сделано, хотя бы мне и пришлось лишиться той части туалета, которая… словом, я хотел купить себе шелковый блестящий chapeau-clace, а к нему pince-nez, перчатки „crême“, трость со слоновой головой из слоновой кости (d’ivoire) и кстати выкраситься в ярко-желтый, канареечно-гнедой цвет. Придется отложить эти планы.
Надеюсь, ты слушаешься во всем своих добрых наставниц и показываешь другим детям примеры прилежания, опрятности, вежливости, хороших манер и доброго права? Я иначе о тебе и не думал. N’est-ce-pas[5].
Прошу передать Mademoiselle Marie-Thérése мои уверения в глубоком уважении.
А тебя, мой идол, — с разбега и с размаха целую в твою милую мордашку, наугад, куда попадется: в нос, рот, глаз, ухо, щеку, подбородок — все равно.
Один добрый, старый Папа».
Я очень хотела, чтобы мои родители приехали вместе. Я пишу отцу:
Август — сентябрь 1920 г.
«Милый Пуп-Саш, во-первых, сообщи мне Ваш адрес, во-вторых, приезжай ко мне с Мамочкой. Она одна не сможет без языка с пересадками. Помни, ты посмотришь дачку — здесь очень много старинных домиков и очень красивые церкви, масса зелени. Приезжай, не пускай Маму одну. Кланяйся знакомым.
Целую крепко, твоя дочь Киса».
Наконец мама и папа приехали в Домреми на десять — пятнадцать дней и поселились в гостинице у Базилики на полном пансионе.
Очень похудевший отец уже не напоминал татарского хана и к пятидесяти годам выглядел типичным русским интеллигентом. В его густых, коротко остриженных, причесанных на боковой пробор волосах было мало седины, и все необычайно крепкие, хотя и потемневшие от курения зубы были без единого изъяна, чем он очень гордился. Татарскими остались лишь глаза, острые, чуть прищуренные, с нависшими веками, зеленевшие в гневе.
Только теперь я понимаю, какой еще молодой в то время была моя маленькая мама. Она никогда не заботилась и не думала о самой себе и почти разучилась улыбаться.
Родители как-то резко выделялись среди французской публики и казались людьми с другой планеты.
Любознательность отца плохо сочеталась с плохим знанием языка и вызывала ироническое пожимание плечами. Его литературное имя, открывавшее на родине все сердца, здесь никому ничего не говорило. Он, так легко и свободно сходившийся с теми же французами в 1912 году в Ницце, как-то душевно съежился, и его обаятельная непосредственность с людьми всех сословий превратилась в преувеличенную вежливость. Каждый француз смотрел свысока на эмигрантов, крепко стоя на своей земле, а те чувствовали себя виноватыми в том, что им некуда было уйти от насильственного гостеприимства. Это чувство с годами все увеличивалось.
В домике Жанны д’Арк отец, перелистывая книгу посетителей, наткнулся на надпись по-русски: «Милая Жанна, как бы я хотела быть такой, как ты. Киса Куприна».
Я была ужасно сконфужена, что родители узнали о моей тайной мечте, тем более что мы с папой имели обыкновение дразнить друг друга по всякому поводу, и, конечно, во время всего пребывания в Домреми и позже отец с почтительным изумлением называл меня Жанной д’Арк…
Старушке Мари-Терез отец наговорил массу изысканных комплиментов и совсем покорил ее. Она стала отпускать меня удить с ним рыбу. К нам примкнул десятилетний Марсиаль, очень сдружившийся с отцом, который обучал его рыболовным премудростям.
Пребывание в гостинице, всевозможные подарки, конфеты и покупка снастей для рыбной ловли совсем подорвали скудные средства моих родителей, и им пришлось уехать раньше времени, так как они беспокоились, что не хватит денег на обратную дорогу.
Из Парижа они писали:
«Милый мопсик,
живем очень скромно, часто тебя вспоминаем.
Новенького ничего нет. Сидим и наводим зверскую экономию, постимся после поездки.
Папа и я крепко, крепко целуем тебя.
Твоя Мума».
«Милая Коскениеми!
Мать велела написать тебе „ласковенькое письмо“. Хорошо.
Тю-лю-лю, Тю-лю-лю…
Тю-лю-лю…
Лю-лю.
В сахарны уста
И во все места
Целую
лую
ую
ю.
А чтобы тебе не было скучно, прилагаю деньги, которые мы скопили в Domremy, лишая себя пищи, питья, папирос и свежего воздуха. Смотри, трать их осторожно. Не покупай на них ни скаковых лошадей, ни автомобилей и не играй в карты. Лучше положи их в банк и живи скромно, но не отказывая себе ни в чем, на проценты.
У нас были Азанчевские и мыкали нас по всему Парижу пешком. Сегодня мы с мамой без задних ног.