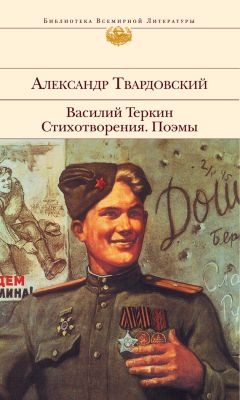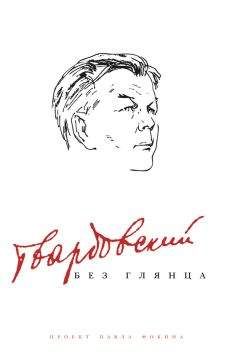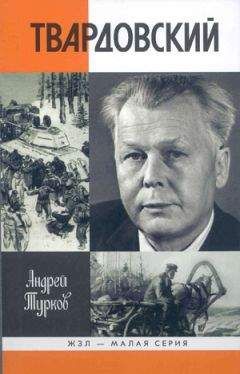Иван Твардовский - Родина и чужбина
Вскоре случилось то, чего мы так опасались: в наше жилище проник сыпняк. Первой жертвой стала пожилая женщина — Лисовская. Она была слаба и до этого, теперь ее свалил тиф, и уже неотвратимо приближался конец. Муж этой женщины упросил священника-спецпереселенца — стриженого смоленского попика, который давно уже распрощался и с ризой, и с гривой, — и тот пришел. Вид его был совсем не церковный, казалось, он всего стеснялся, поспешно читал отходную молитву, щепотью тряс воздушные кресты над умирающей и тут же, похоже, боясь заразиться, юркнул из хаты. Тем же вечером женщина скончалась. Сам Лисовский впал в отчаяние и совсем не держался на ногах. Мы не могли оставаться в стороне и всячески разделяли его горе. Силами тех, кто жил рядом, обрядили покойную и проводили на таежный каменистый бугор окраины, названный кладбищем. Картина самого погребального шествия была гнетущей: гроб с телом покойной тащили волоком, пристроив под него подобие полозьев. На самом бугре нельзя было выкопать могилу — скальный грунт можно было разрушить лишь сверху, не более чем на полметра глубиной. Вот в такую выемку и опускали гробы, а затем обкладывали могилу крупными кусками и крошевом камня.
Есть у Александра Трифоновича в одном из стихотворений, посвященных памяти нашей матери, такие строки:
Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать,—
Уж очень было кладбище немилое
Кругом леса, без края и конца,—
Что видит глаз — глухие, нелюдимые.
А на погосте том — ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого
Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья,
А то могилки сразу за бараками.
Нет, это не с моих слов. Скорее всего — из рассказов самой матери. Мне так и не случилось рассказать брату о тех мрачных днях — не оказалось удобного момента, к тому же я знал, что он всячески избегал воспоминаний о наших муках.
Не удалось и нашей семье уберечься от тифа. Всего, может, прошло пять-шесть дней, как, будучи на работе в лесу, я почувствовал сильный озноб, головную боль и слабость, понял, что тиф подобрался и ко мне. Константин помог дойти до поселка, и я слег с высокой температурой. Врачей на поселке не было, медицинской помощи не от кого было ждать. Больные оставались в своих семьях, если они еще сохранялись. Лишь единственный человек из числа спецпереселенцев когда-то был лекарским помощником в армии, и вот теперь он представлял всю медицинскую службу на поселке. Но что он мог, если в его распоряжении почти ничего не было: ни помещения, ни медикаментов, да и знаний, надо думать, вряд ли было достаточно.
Однако, хотя он и не лечил и не мог лечить заболевших, все же к нему обращались, чтобы быть на учете, так как если больной выживал, то с ведома и санкции этого лекпома выздоравливающему выписывали килограмм селедок и полкилограмма сахара для, так сказать, восстановления сил.
Болел я тяжело и, пожалуй, вряд ли выжил бы, если бы не мать. Уж не знаю, где и как доставала она обыкновенную клюкву, приготовляла из нее морс, но, помню, средство это здорово облегчало и помогало. Я выжил. И получил тот "восстанавливающий силы" продукт — селедку и сахар. Только-только я стал поправляться, как слег Константин. А за ним — мать. Затем заболели сразу и Маша и Вася. В какой-то момент я был единственный на ногах и должен был спасать всех чем мог и как мог. Думаю, что выдержали мы тогда и все остались живы благодаря нашему отцу: его редкостная преданность семье, его помощь и просто беспримерная жизнестойкость вселяли жажду превозмочь недуг, устоять, выжить во что бы то ни стало.
Во второй половине апреля наша семья перебралась в свободную, никем не занимаемую хату. Это была совершенно новая хата, по типу пятистенок, с двумя входными дверьми с противоположных сторон. Никто не хотел ее заселять. И причина была в том, что людей стало меньше, жизнь не радовала, ни у кого не было желания устраиваться и прирастать, являясь ссыльным. Недолго мы с братом пожили в той новой хате. Пришла весна. Снег встречался лишь в чащобах да низинах, и вопрос о том, как быть дальше — продолжать ли изнуряться тяжким и неблагодарным трудом на лесосеке, лишь ухудшая положение матери, которая вынуждена отцовскую помощь расходовать и на нас, — этот вопрос становился неотложным.
Вырабатываемый нами паек по-прежнему составлял едва ли половину необходимого, чтобы жить и работать. Теперь же, после болезни, мы не в силах были и того выработать. Да и не принимала душа самого положения — невольниками быть мы не желали. Мать с этим соглашалась и одновременно горько страдала, предвидя наши скитания. Но день ото дня мы всё ближе придвигались к решению и наконец окончательно стали готовиться снова бежать. Собственно, слово «бежать» не совсем точное. Ведь нас не охраняла стража, мы не были обнесены колючей проволокой и в известном радиусе были свободны. Нас могли задержать, это — да, но риском для жизни это не было, стрелять в нас не могли.
Теперь нам не угрожал тиф: мы знали, что вторично им не болеют. Значит, в поселке можно было приобрести кое-какую одежонку, не опасаясь заразиться. В общем, такие заботы отпадали, хотя на душе отмечалось беспокойство совсем по другим причинам. Мы не были единодушны в вопросе конечных наших целей: куда держать путь и чего искать? Константин намерен был вернуться в родные места на Смоленщину, хотя ясных представлений о том, что нас там ожидает, не имел. Я же настаивал на том, что проще и надежнее оказаться где-либо на стройке и не рисковать в той мере, как это может случиться на Смоленщине, где нас могут опознать. Ведь у нас не было никаких иных желаний, кроме как найти где-то работу и жить на общих гражданских условиях, что вполне могло быть осуществимо, поскольку тогда еще не требовалось паспортов. Чтобы устроиться на работу, достаточно было иметь какую-либо справку. Совсем вроде просто: "какую-либо справку". Но где ее взять?
Наши несовпадающие намерения мать замечала, и это не могло не огорчать ее: расставаться с сыновьями, уходящими в белый свет при не полном единомыслии, было ей нелегко. Только что могла она сделать? Нелегко было и нам оставлять родную мать. Но и оставаться с ней не было смысла: пробовали ведь отдавать работе все силы, да что толку?
Утром 22 апреля 1932 года мы вновь покинули лялинские дебри. Это была наша третья попытка уйти из этих мест. Были попытки уйти и из других мест — из Теплой горы и Утеса, — но кончились они без успеха. И все же мы уходили. Без копейки денег и почти без продуктов. Все, что нашлось, отдали за смену нашей изношенной одежды — это было первейшей необходимостью. Из снеди же мать смогла приготовить с килограмм пресных ржаных бубликов, какие она всегда делала, когда не было хлеба. Мы рассовали их по карманам, чтобы не нести в руках узелков. В самые последние минуты сестра Анна предложила свое пальто, которое купили ей еще в Загорье и которое она смогла сохранить до этих дней.