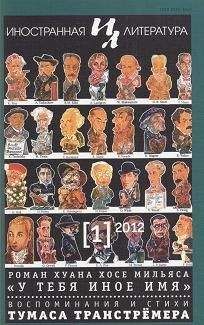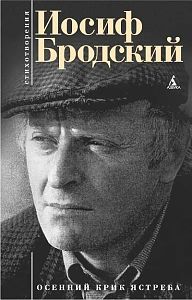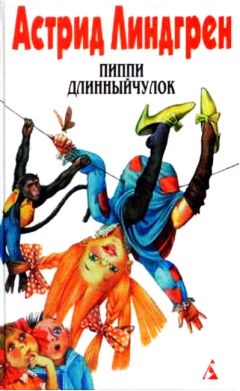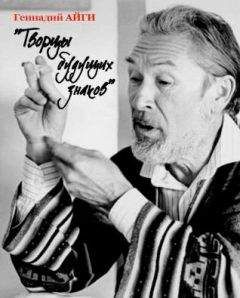Юрий Нагибин - Ты будешь жить
Я сказал, что не улавливаю его мысль.
— Но это так просто! Вспомните хотя бы утверждение, каким начинается «Анна Каренина», эти чудные, музыкальные, остающиеся навсегда в памяти слова «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Но если справедливо первое утверждение, то несчастье, разрушая стереотип, тоже будет неизменным. Нет, семьи счастливы так же по-своему, как и несчастливы. Я не успел написать рассказ на эту тему, — вернее, быль, — хотите, я вам его подарю?
Я не в силах передать дословно рассказ Моэма, буду пытаться, насколько возможно, сохранить его интонацию, но боюсь, что и в этом не преуспею. Слишком много времени прошло, и стерся его голос в моей памяти, а заметки, сделанные по живому следу, обидно кратки.
Прежде всего Моэм познакомил меня с героями. О Капитане (пишу с большой буквы, поскольку так он будет называться в рассказе) Моэм начал чуть расплывчато, приблизительно, то ли не очень хорошо зная его предысторию, то ли позабыв, а придумывать не хотелось. Еще в молодых годах Капитан испортил себе карьеру, разбив — по лихости — катер о причал. После этого ему пришлось начинать все с начала, очень медленно одолевая каждую ступеньку служебной лестницы. Это не улучшило характера колючего нелюдима.
Однажды, очумев от штурманского безделья (из-за поломки долго болтались возле скучных Гибридских островов), он набросал несколько морских пейзажей двухцветным карандашом. Это его развлекло, и в очередное плавание он захватил с собой ящик с дешевыми масляными красками. Писал он каждую свободную минуту, не получая ни малейшего поощрения от окружающих: неумелые и странные его картины отталкивали простодушных моряков. Да он и сам вроде бы не придавал значения своей мазне, но, вернувшись на берег, не выбросил полотна за борт, а взял с собой. Он снимал крошечную квартирку в портовом городе Саут-энде.
Мотаясь по морским и житейским волнам, Капитан оставался безбытным человеком. Заядлый холостяк, он беспощадно обрывал каждую связь, которая грозила затянуться. Если женщина не ждала от него ничего, кроме короткого партнерства, он легко и спокойно сближался с ней и так же спокойно брал расчет, потому что не был ни пылок, ни ласков, ни привязчив. Ему казалось, что он оберегает свою свободу, на самом деле он боялся малейшей ответственности за другого человека. Капитан был эгоистом до мозга костей. Больше всего он ценил нетребовательных портовых дам. А вообще он не был бабником, виски играло куда большую роль в его жизни. Он любил беседовать с бутылкой один на один. Беседовать в прямом смысле слова: когда в бутылке «Скотча» оставалось не больше чем на три пальца золотистой, пахнущей гнилым сеном жидкости, Капитан начинал говорить, вглядываясь в темное непрозрачное лицо собеседницы. Он говорил всегда об одном и том же: какая кругом сволочь и какой он прекрасный, чистый, непонятый человек. Иногда бутылка отвечала, иногда нет, но и в том и в другом случае была полностью согласна с Капитаном.
Все были виноваты перед Капитаном, прежде всего и больше всего — родители, которые, не отличаясь ни красотой, ни статью, осмелились его родить. От них он такой низкорослый, костлявый, ястреболикий. В нем не было ни одной привлекательной, хотя бы заметной черты, кроме улыбки, но улыбку эту — нежданную и опасную — он не получил в наследство, а воспитал сам, подметив, что внезапное обнажение белых острых зубов, врезавшее в кожу две глубокие складки от крыльев хрящеватого носа к уголкам тонкогубого, тугого рта, производит впечатление на окружающих. Улыбаясь, впрочем, редко, он становился человеком, с которым надо считаться.
В состоянии крепкого подпития Капитан начинал верить в Бога и менял собеседника. В пошибе библейского Иова — верующего номер один, по мнению Серена Кьеркегора и его последователей, — он предъявлял вседержителю серьезный счет. В отличие от шумного, но корректного Иова, Капитан не стеснялся в выражениях, требуя у Господа возмещения убытков: его подло обманули — не дали причитающегося таланта. Этим он являл трогательную веру и во всемогущество, и в бесконечную снисходительность Творца Всего Сущего.
В трезвом виде он был куда более высокого мнения о своих художественных возможностях, порой чувствовал себя положительно талантливым, очень талантливым, дьявольски талантливым, но взлету мешало полное незнание ремесла. Учиться было поздно, к тому же он догадывался, что кое-как усвоенные профессиональные навыки убьют то единственно несомненное достоинство, которое удерживало самых разных людей у его картин: какую-то варварскую свежесть.
Начавшееся со скуки незаметно стало потребностью и отдушиной, а там и единственным смыслом существования. Конечно, он не порывал с морем, если каботажное плавание на гнилых посудинах можно числить по романтическому морскому ведомству, да ведь нужно было на что-то покупать выпивку и краски. Человек с душой Дрейка, сэра Уолтера Раллея, Нельсона и Кука терся у грязноватых берегов Англии, развозя какие-то скучные грузы. Его фрегаты, корветы, бригантины назывались «сухогрузами» — нет унылее, безнадежнее слова. Но мечта о белых кораблях, томившая юношеское воображение, не оставила его, хотя он никому в этом не признавался, даже самому себе. И если возникал волнующий образ, он гнал его прочь, как Мартин Лютер — беса, правда, не с помощью чернильницы.
Изображал он лишь то, что было перед глазами: мусорное прибрежное море, причалы, пристани, складские строения, портальные краны, лебедки, катера, баржи, сухогрузы, чаек на маслянистой, радужной воде, восходы, закаты, сумерки, очень редко людей — всегда в пейзаже, за портреты не брался, равно и за натюрморты. Он писал без затей, с первобытной простотой и доверием к руке, но получалось затейливо, странно — часто он сам не узнавал предмета изображения. Непослушная кисть делала что хотела: окружающий мир смещался, перекашивался, терял свои пропорции и представал в «обратной перспективе» — все, что позади, оказывалось крупнее того, что на переднем плане. Но главное, он становился разнузданно-нищенски ярок, словно цыганские лохмотья. Коли непременно надо сравнивать, то ближе всего Капитан был к итальянским примитивистам и отличался от них лишь отсутствием нежности и неосознанной радости бытия. Все его пейзажи, кричащие и не озаренные солнцем, а будто исходящие собственным свечением, как гнилушки, давили мрачностью, именно мрачностью — не печалью, в последней есть очищение; омраченная душа Капитана внедрялась в аляповатую яркость красок и отравляла их. Он был человеком художественно необразованным, никогда не ходил в музеи, на выставки, понятия не имел о направлениях в искусстве, но чем больше тратил красок, тем тверже и ожесточеннее утверждался в своем праве писать так, как он пишет. Иначе он не хотел. А затем кто-то показал ему альбом таможенника Руссо и назвал направление: «примитивизм». Слово его разозлило, но уверенности в себе прибавило — можно делать все, что хочешь, никаких правил не существует, никто тебе не указка, и пусть другие придумывают твоей манере какое хочешь название. Это делается от трусости, так заговаривали в деревнях бесноватых. А ты плюй и беснуйся на всю катушку. Кстати, Руссо в репродукциях ему не понравился. Капитан решил, что Руссо — таможенник — липовый, а художник — профессиональный, хорошо обученный, только ломающийся под ребенка, чтобы не походить на других. Его деревья, листья, травы, звери были слишком изысканны, чтобы поверить в топорные и смешные фигуры людей. Зато Капитан поверил искренности, неумению и таланту другого художника, с которым познакомился позже, грузина Пиросмани, но чернобородые, на одно лицо, люди, пирующие за длинными столами, были ему неинтересны. По правде говоря, вся живопись, какую только доводилось видеть, была ему неинтересна и чужда. По душе было лишь то, что делал он сам, и то лишь на трезвую голову. Подвыпив, он терял веру в свой гений.