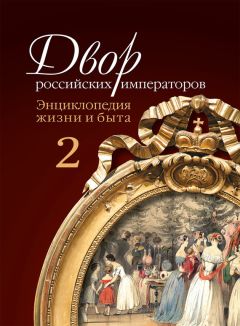Александр Бахрах - По памяти, по запясямю Литературные портреты
Трагичнее всего, что за месяц до освобождения Франции она пала в стычке с устроившими ей подлую засаду милиционерами, то есть французами, бывшими на службе v немецкой полиции или гестапо. Пала, как «Режин», но еще до того забыв о «Саре», может быть, все-таки помня о «Ариадне-.
После войны она была посмертно награждена медахью (о- противления и военным крестом, а в IVлузе — говоря! — ей воздвигли памятник.
Перед его переселением в Израиль Khvi снова <тах чоо- доженом» и пригласил меня, чтобы познакоми i ь с юной женой-
4
француженкой и преподнести большущий том своих стихов (в нем, кстати сказать, Ариадна ни прямо, ни косвенно не упоминалась). За чашкой чая я напомнил ему нашу ту у к кую встречу и, не скрывая некоторого недоумения, спросил о смысле всех тогдашних его и Ариадниных замечаний. Кнут кисло улыбнулся. «Вы нас не поняли, мы вас испытывали. Де о было не в ве1- чине, если вы ее любите, угощайтесь— и он пододвину таре х- ку с бутербродами — а в том, чтобы выяснить, созрели ли вы дхя вступления в нашу организацию». Я пожал плечами, такой с по- соб вербовки меня поразил, но, кроме того, горячая лава еще только разливалась по Франции и об организованном сопротивлении еще и речи не было. «Может быть, и так, но ведь мы с Ариадной, — не без гордости добавил Кнут, — были «предсо- противлением», потому что слишком хорошо понимали, что будет следовать».
Разговор на эту тему, помнится, он тогда закончил цитатой, в которой корнелевский герой на вопрос «Что вы хотите, чтобы он сделал один против трех?», отвечает— «Чтобы он погиб, если ему на помощь не придет взрыв отчаяния».
Я низко кланяюсь памяти Ариадны Скрябиной, не раз думал о тех «взрывах отчаяния», вызываемых разнородными причинами, которым она несомненно была подвержена к концу своей жизни, и эти несколько строк преследуют одну единственную цель — напомнить о ней, как бы возложить скромный цветок на ее безвестную могилу.
Герой без кавычек
Андрей Седых начинает одну из глав своих воспоминаний словами: «В жизни знал я только одного подлинного гения. Это был Шаляпин». Эта фраза запала в мою память, и мне хотелось бы теперь перефразировать ее и сказать: «В жизни мне удалось встретить только одного подлинного героя», если применять это слово без кавычек и без того налета скрытой иронии, которая почти неизбежно ему сопутствует. Я имею в виду Бориса Вильде, именем которого названа теперь улица в одном из пригородов Парижа.
Когда-то, в давние времена, Вильде невзначай появился в Париже, покинув одну из прибалтийских республик, откуда он был родом и где, как тогда говорили, несмотря на молодость лет, проявлял какую-то политическую активность, пришедшуюся не по вкусу местному правительству.
Он писал стихи, подписывая их псевдонимом «Дикой» — переводом немецкого слова «вильд», от которого произошло его имя. Стихи были расплывчатые и незапоминающиеся. Это было вполне естественно для начинающего поэта, но более редким явлением было то, что он сам понял, что его призвание не в поэтических упражнениях. Он был страстным спортсменом, и результаты спортивных достижений волновали его больше любых, хотя бы удачно найденных созвучий.
Вскоре он довольно регулярно стал посещать сборища той русской литературной компании, которая собиралась в одном из монпарнасских кафе. Он быстро сошелся с завсегдатаями этих полуночных собраний, его полюбили, потому что он, действительно, был во всех отношениях добряком, «рубахой-пар- нем», готовым услужить всякому. Вильде не был спорщиком и даже когда не соглашался с высказанным кем-либо суждением, собственного мнения не отстаивал. Свое несогласие он умел показать без слов.
В этой богемной среде он всегда держался «сам по себе», был, так сказать, «новичком», который усвоил, что «в чужой монастырь со своим уставом не суются»!
Трудно и сейчас забыть его светло-светло-голубые, почти аквамариновые глаза, как-то впивавшиеся в собеседника и, вместе с тем, притягивающие; густые брови, торчащие по сторонам. Запомнилась его серьезность, нелюбовь к фамильярности, нежелание говорить о себе, нежелание что-либо обращать в шутку.
Как-то, почти случайно, я провел с ним целую ночь во второсортном русском ресторанчике, приманкой которого был цыганский хор, составленный из членов семьи владельца заведения. Так вышло, что Вильде был моим соседом и, будучи слегка навеселе, был менее замкнут, менее «застегнут», чем обычно. Мы проговорили до утра, и в этой угарной обстановке он стал, не давая прерывать свою льющуюся потоком речь, доказывать необходимость что-то в жизни совершить, наглядно показать, что он существует. По русскому обычаю он как бы старался «выяснить отношения» — конечно, не со мной лично, для этого мы были недостаточно знакомы — но с миром, с искусством, особенно с музыкой. Он довольно для меня неожиданно стал утверждать, что та полуфалыыивая цыганщина, которая слышалась в донельзя прокуренном помещении, лишенная аполлонгри- горьевского или хотя бы блоковского разгула, все-таки остается самым высоким из искусств, потому что обладает магической силой уводить от повседневности, от ее серости. Именно это и прельщает его в данный момент не меньше Мусоргского, которого он боготворил. Именно музыка, даже «такая», доказывал он, убеждает его в необходимости быть над миром, вне его. Эти слова мне особенно четко запомнились, потому что мне было неясно, какое, собственно, содержание он в них вкладывал.
Во всей его повадке, в его физическом облике, в его так мало вязавшихся с обстановкой утверждениях, нередко двусмысленных, было что-то, что могло отдаленно напоминать Карамазов- ские страницы о «русских мальчиках», переселенных в Париж в «сомнительные» предвоенные годы.
Можно ли было по всему, что он говорил, догадаться, что увлекшись этнографией, он работает запоем целыми днями,
сдает какие-то зачеты, ездит в научные командировки, читае ученым ученые рефераты?
Кончив Сорбонну, он нашел работу в Музее человека и затем, влюбившись в дочь своего профессора и директора музея, женился на ней. Недолгий брак, как говорили, был на редкость счастливым. Да иного и нельзя было ждать от такого монолитного человека, каким был Вильде.
Довольно случайно, не помню в связи с чем, я однажды помянул его имя в разговорю с Андре Жидом. Жид встрепенулся и рассказал мне (кое-что из этого рассказа он потом занес в небольшую, посмертно изданную книгу дневниковых записей «Да будет так»), что после военного крушения Франции, когда он не видел никакого просвета и гостил у друзей в горной деревушке, лежащей высоко над Грассом, одно неожиданное посещение «как бы озарило весь его горизонт». Это был визит Бориса Вильде. При этом Жид добавлял, что едва помнит, как он с ним до того познакомился, но всем своим видом, после нескольких переброшенных фраз, он угадал, что Вильде нуждается в пристанище и — собственно, едва зная его, — предоставил в его пользование полупустую мансарду, находившуюся над его собственной квартирой. Но, признавался Жид, «раскусить» жильца было трудно, показывался он редко и всегда был не в меру сдержан. Все же, когда он признался, что ищет работу по специальности, Жид рекомендовал его профессору Ривэ, который сразу признал его работоспособность и ценность научных изысканий. Может быть, именно эта рекомендация директору Музея человека и оказалась фатальной в судьбе Вильде.