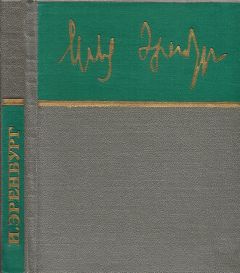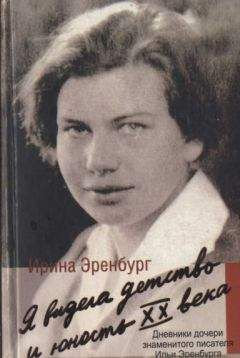Ева Берар - Бурная жизнь Ильи Эренбурга
Еврей советского исповедания
Действительно, вскоре новый редактор «Красной нови» Федор Раскольников предлагает ему «социальный заказ»: речь идет о серии репортажей из Германии, Чехословакии и Польши. Весь 1927 год проходит у Эренбурга под лозунгом «Лезь, Илья, лезь!», и вот ему предоставляется уникальная возможность «пролезть» в ряды официально признанных советских писателей. Неужели в Москве вспомнили, что имеют дело с талантливым журналистом, автором «Лика войны»? Как бы там ни было, предложение это как нельзя более кстати: измученный долгим бездействием, Эренбург готов к новым приключениям: у него появился шанс стать советским Альбером Лондром и послужить правому делу. Альбер Лондр, французский журналист, один из первых иностранных корреспондентов как раз отправляется в такую же поездку — быть может, это совпадение было неслучайным. В своих репортажах Лондр будет писать об Ostjude — восточноевропейских евреях, «вечных жидах». Эренбург уезжает в командировку в ноябре; в его статьях речь тоже будет идти не только о «великой семье славянских народов», но и о еврейских общинах Центральной Европы. Действительно, совпадений немало. Но какая разница!
Поражает не только стремительность, с которой писатель откликается на полученный заказ. Поражают тон, манера. На рукописи «Лазика Ройтшванеца» еще не высохли чернила, а Эренбург уже отправился писать об «униженных и оскорбленных» евреях с издевкой, с насмешкой, с презрением. «Этот моралист был, как это часто бывает, аморален, — заметит об Эренбурге польский поэт Александр Ват. — Его мир был раздвоен: двойные чувства, двойные слова, двойная вера»[257].
Репортажи из Германии просто великолепны. Конечно, советская критика упрекнет автора в том, что он слишком мало внимания уделяет классовой борьбе, но легкий импрессионистский стиль, ирония, прекрасное знание темы, некое чувство превосходства, льстившее русскому читателю, сразу завоевали симпатию публики. Репортажи из Польши менее блестящи, но они также не проходят незамеченными: «Но вот, например, печатал я польские очерки. Их у нас всячески расхвалили, разумеется, не за литературные достоинства»[258]. В самом деле, «нелитературные», то есть пропагандистские достоинства его публицистики настолько бросались в глаза, что в ходе подготовки отдельного издания Эренбургу пришлось здорово почистить текст. Очерк «В Польше» вошел в книгу «Виза времени», которая была выпущена вначале в Берлине (1930), а затем в Москве (1931). Позже, уже после войны, когда готовилось к печати собрание сочинений Эренбурга, было решено не включать туда эти статьи.
Читая эти статьи сегодня, в первую очередь поражаешься тону, о котором Эренбург пишет о положении евреев в пограничных Советскому Союзу странах. Автор свято убежден, что он — мессия, призванный обратить их в советскую веру: «Положение евреев в Польше донельзя просто — это голодная смерть осажденных. Ждать помощи со стороны наивно. Только вылазка может спасти население зачумленной крепости. Но для вылазки нужна иная воля»[259]. «Помощь со стороны», которую напрасно ожидают несчастные, — это сионистское движение. «Иная воля», которая является необходимым условием спасения, — это страстное стремление к образованию молодых евреев Варшавы. Им надо помочь вырваться из гетто. Но ни литература на идише, слишком молодая и скудная («Еврейская литература чрезвычайно молода. Молод язык — идиш»[260]), ни тем более «локальная» польская литература с ее «узостью, ее подлинной местечковостью»[261] сделать это не в состоянии. Духовные запросы евреев, которые «доросли до действительного ощущения всечеловеческой культуры», может удовлетворить только русская литература: «Русская литература — это прежде всего литература общечеловеческая. <…> Мечтатели еврейских местечек находят в этой российской широте надежду и опору. Наша литература в библиотеках Белостока, Радома или варшавских Напевок — это клочок лазури арестанту»[262]. Необходимо вырвать еврейскую молодежь из гетто, открыть ей глаза на убожество жизни еврейской общины. Не зря в Москве выбрали для поездки в Польшу именно Эренбурга, автора стихотворения «Еврейскому народу». Ведь ему пришлось всего лишь позаимствовать некоторые идеи из собственного прошлого: разве он с детства не ненавидел дух еврейских гетто? Разве он не отвергал идею сионизма? Разве его Лазик не погиб, преследуемый богатыми палестинскими евреями? Разве его программная статья об «иудейском духе» не была обращена к европеизированным, ассимилированным евреям, которые раз и навсегда отказались от засаленных лапсердаков? Так что Эренбург, можно сказать, никого не предал и остался верен самому себе. Когда-то, в Париже и Берлине, он создал идеальный образ еврея «с элегическими глазами, классическими глазами иудея, съеденными трахомой и фантазией»[263]; в Польше он обнаружил только трахому — и это вызывало у него отвращение. Он в недоумении и ужасе при виде этих «несгибаемых», обрекших себя на нищету и отверженность. Нет, он не с ними! Вместо «соли земли» перед ним грязные, прожорливые, тупые и жадные существа: «На лицах библейский экстаз. Куда они торопятся? В синагогу? Молиться? Бить себя в грудь? Нет, Лодзь не Стена Плача. Несутся они вот к этому окошку, где вывешены биржевые бюллетени. Глаза, привыкшие справа налево читать высокие слова о добре и пальмах, слева направо читают названия подлых и заманчивых бумаг». Эренбург, цивилизованный, ассимилированный еврей, испытывает жгучий стыд, он глубоко потрясен: в Польше «существуют сотни, якобы „тайных“, хедеров, где еврейские мальчики с утра до ночи изучают Талмуд, где они не изучают вовсе ни польского языка, ни арифметики, ни начальной географии. Я побывал в таких хедерах. Тесная темная комната. Вонь. Духота. Грязный, невежественный рэби (учитель). В его руке недвусмысленная линейка. Ею наводит он румянец на чересчур бледные лица мальчишек. <…> Ни один католический монастырь, где монахини щиплют девочек, не может потягаться с хедером. Хедеры следует показывать туристам наряду со средневековыми темницами или с „музеями пыток“. Приведите в хедер европейца, он негодующе воскликнет: „но ведь евреи самый отсталый народ!“»[264] При подготовке репортажей к отдельному изданию этот пассаж будет исключен из книги.
Прибыв в Варшаву, Эренбург представился евреем «советского исповедания»[265]. В советском паспорте национальная принадлежность стала указываться только с 1936 года, так что формулировка, изобретенная Эренбургом, предвосхищала это нововведение. Конечно, уже не первый год евреи «советского исповедания» клеймят своих братьев по крови, особенно если те упорно продолжают посещать синагогу, советоваться с раввином и изучать Талмуд. Эренбург даже написал на эту тему в 1928 году рассказ «Старый скорняк»: герой рассказа, молодой еврей, комсомолец, объясняет старому дядюшке, почему его «бога» (слово это на революционный манер Эренбург первый раз печатает с маленькой буквы) нужно выбросить на свалку истории. Но дело в том, что сам Эренбург отнюдь не был молодым рьяным коммунистом. С момента, когда он принял решение «пролезть» в советские писатели, и до официального признания его в качестве такового он будет постоянно смывать с себя клеймо своего прошлого. В книгах и статьях, которые в эти годы с поразительной скоростью сыплются из-под его пера, он малюет черной краской прежде всего тех, кого любил, — евреев и Европу. Только Россия остается для него чем-то заветным и неприкосновенным, его святая святых.