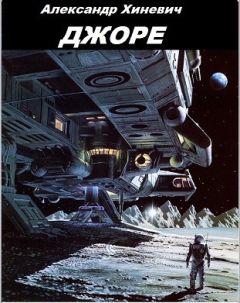Николай Микава - Грузии сыны
Нет, Грибоедов окончательно убедился, что не может жить без Тифлиса, без весенних берегов Арагви, без древнего Мцхета, без этих карабкающихся вверх улиц, без многобалконного, знойно-каменного города.
Он Колумб Грузии. Кто до него раскрыл, полюбил эти сказочные красоты, этот рай, затерянный в горах?
«Природу Грузии не опишешь, никакими словами нельзя изобразить ее красоты!» — в который раз повторял он про себя.
Никогда не забудет он первого впечатления, которое произвело на него Дарьяльское ущелье — эта узкая щель, пробитая между высоченными стенами гор, куда с трудом проникает- дневной свет и дно которого недосягаемо для человеческих глаз. Шум необузданной реки, храм на горе Казбеги, крутой спуск с Крестового перевала в Кайшаурскую долину, Ананурская крепость, верховья бурного Арагви, в волнах которого таятся зеркальные форели.
Да, действительно, здесь все создано для человека, для радости, для счастья. С жадностью юноши стал он изучать историю, литературу, культуру страны. Он безмерно полюбил страну, «где темные ночи были как сказки, а дни напоминали рай». Особенно любил он Восточную Грузию» Кахети, где часто бывал у своего друга и тезки — поэта Александра Чавчавадзе.
Правда, Александр был старше его на девять лет, но, пожалуй, это только способствовало усилению их дружбы, ибо, выражаясь словами А. С. Пушкина, Грибоедов, «один из образованнейших людей эпохи», часто не находил общего языка со своими сверстниками.
А пока что он спешил к своему другу, поговорить с ним о Петербурге, о Москве, о Париже… Париж, он так хотел побывать в этом городе!
Июльский день 1826 года был очень жарким. Люди ждали наступления сумерек, не покидая своих прохладных покоев и ажурных висящих балконов, утопающих во вьющихся ветвях винограда, а налитые солнцем, но еще зеленые гроздья напоминали о приближении золотой осени.
— Гаспадин дарагой, купи землю для цветов, харошая земля, — Грибоедов вдруг очнулся от дум.
Перед ним стоял кинто с осликом, нагруженным землей. Это была явная шутка. Для чего ему земля для цветов?
— Землю куплю потом, когда буду уезжать, чтобы всегда носить с собой Грузию… А пока что отсчитай-ка мне эти розы. Сколько там? — сказал он, указывая на пурпурно-красные розы.
— Что розы, их все покупают, а вот земля… — бурчал себе под нос кинто, с изысканностью рыцаря отбирая цветы.
И вот Грибоедов уже у знакомого дома. Ему открыли двери. Он бросил швейцару головной убор, перчатки, вручил хозяину розы и вошел в просторную, богато и со вкусом обставленную приемную. Здесь было прохладно.
— Ну как, что там случилось?.. — тревожно спросил хозяин.
— Не говори… — хорошее настроение исчезло. За стеклами очков затуманились серые умные глаза. — Я всегда говорил, что эта затея несерьезная…
В Тифлисе только недавно стало известно о судьбе декабристов, и Чавчавадзе был очень огорчен.
— А я надеялся. Трудно дышится.
— Я разделяю их мысли, идеи, но…
— Ты всегда скептически относился к их затее…
— Пойми, друг Саша, сто прапорщиков не могут изменить весь государственный строй… Народ не принимал участия в их деле, народ для них как будто и не существовал… А без народа такие дела не творятся…
— А ты как?.. Все в порядке? — тревожно спросил хозяин.
— Чудом, мой дорогой, чудом, — если бы мой родственник — проконсул Кавказа, — так они называли генерала Ермолова, — не предупредил меня и я бы не принял кое-каких мер, то хлебнул бы Сибири… Да, помнишь офицера Якубовича?
— Это с которым ты дрался на дуэли? — спросил князь. Ну как же, как он может забыть эту нашумевшую во всем Тифлисе светскую дуэль 1818 года! Раненного в руку Грибоедова привезли сюда, к нему домой, они с женой ухаживали за ним.
— Тот самый. Тоже оказался декабристом.
Наступила пауза. Тишину нарушил бой часов, привезенных из Парижа.
— В Петербурге я уже не вел веселой жизни со светской молодежью, да и молодость давно прошла… Мне кажется, что я глубокий старик и что тень смерти преследует меня всюду…
Александр Чавчавадзе сам был в плохом настроении, но этот человек с пылким, южным характером сумел подчинить страсти внешнему, кажущемуся спокойствию.
— Почему я так стремлюсь сюда? Почему я так люблю Грузию? — задумчиво сказал Грибоедов.
— Потому что тебя здесь любят, ждут.
— Я люблю многострадальный Картли и музыку твоей страны. Здесь как-то легко дышится. Хочу поселиться здесь навсегда, Александр. Открыть бы здесь уездные училища для лиц свободного состояния и училища восточных языков, коммерческий банк, публичную библиотеку. Издавать газету «Тифлисские ведомости»…
— А твои планы о перестройке Тифлиса? — с легкой иронией заметил Чавчавадзе.
— А ты не смейся, будет и это…
Вдруг распахнулись двери, и в комнату вошла девушка. Изумительная грациозность, женственность, все говорило о ее юности, и только глаза, большие, красивые; умные глаза выдавали в ней не по возрасту развитую женщину. Боже мой, неужели это Нина, крошка, которую Грибоедов брал на руки, ласкал, играл с ней?!. Да, это была она, и чтобы скрыть смущение от девушки, он по-французски обратился к ее отцу:
— За такой очаровательной Медеей я приплыл бы даже с севера!..
— Вы опоздали, сударь. Увы! Медеи наших дней не являются обладательницами золотого руна, — ответила девушка тоже по-французски.
— Потому что они сами обратились в золотое руно, — сказал уже по-русски Грибоедов и поцеловал ей руку.
Она присела в легком реверансе, и столько было непринужденной грации в этом движении, что Грибоедов почувствовал легкое головокружение.
— Не желаете ли прохладительного, Александр Сергеевич? — предложила девушка. — Лимонад на льду…
«Боже ты мой, Александр Сергеевич! Как важно! Да неужели это она, крошка, маленькая Нина!»
— Только цинандальского, — сказал он, улыбаясь.
Не прошло и минуты, как на большом серебряном подносе она внесла хеладу, наполненную вином, и два высоких бокала, на которых красовалась буква «Е» с короной. Чавчавадзе выпил залпом, Грибоедов пил смакуя.
— Мне кажется, что я пью солнце, — сказал, поставил бокал на поднос и подсел к фортепьяно.
— Привезли что-нибудь новое? — спросила Нина.
— Сыграй свое, ты же обещал «Там; где вьется Алазань»… — напомнил хозяин дома.
— Я привез вам новый романс Глинки, я ему напел, а он написал, называется «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной…»
Он играл так, как мог играть только автор. И вдруг Нина запела красивым низким голосом, и казалось, будто она пела этот романс с рождения.