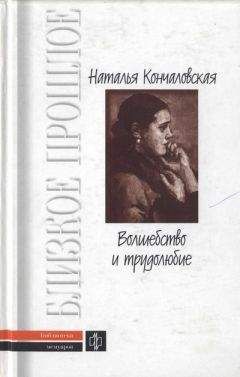Наталья Кончаловская - В поисках Вишневского
Александр Александрович часто и сам выезжал в командировки. Помню, как однажды, вернувшись из Чили (там он подружился с хирургом Альенде, ценившим и любившим его), Александр Александрович рассказал забавный случай, как во время прогулки с друзьями-чилийцами он решил забраться на какую-то высокую гору, куда никто не хотел лезть из-за сильно разреженного воздуха. Александр Александрович полез один, и каково же было его изумление, когда на самом верху горы он встретил трех каких-то старух американок. Эксцентричные особы никак не могли упустить случая забраться туда, куда ни один черт не полезет. «Им все было надо так же, как и мне!» — смеялся Александр Александрович, рассказывая об этом эпизоде.
А как он любил привозить из своих поездок растения! Однажды привез семена кипариса, посадил их, сам за ними ухаживал и вырастил деревца. И как же горевал, когда они погибли, — в жаркое лето их забыли поливать те, кому мы их поручили, уезжая в отпуск.
Александру Александровичу постоянно привозили друзья какие-то заморские редкости. Однажды кто-то подарил ему двух детенышей-крокодильчиков. Ну конечно, дома их держать было негде, и Александр Александрович пристроил их в ванной одного из корпусов института. Он следил за ними, ежедневно навещал и кормил их, но кто-то недоглядел за ними, и крокодильчики подохли. Александр Александрович очень горевал.
Я вспоминаю, что традицию — держать в доме птиц — я переняла от Александра Александровича, когда увидела у него в проходной рядом с кабинетом множество птиц в клетках.
— Да, в институте были птицы, — говорит Нина, — а дома, здесь, у нас всегда был аквариум с рыбками. И помню, как, подняв очки на лоб, Александр Александрович склонялся над освещенным изнутри аквариумом, разглядывал своих рыб и изучал их повадки.
— Ты смотри, как они гоняются друг за другом и ведь, наверно, разговаривают на рыбьем языке, кричат что-то! Занятно!..
Кстати, эти наблюдения за золотыми рыбками не мешали ему быть страстным рыболовом. Мог часами сидеть с удочкой на берегу. Волжанин, он с детства обожал воду: лодка, удочки, гребля, дальние заплывы, голоса над рекой, все это навсегда осталось для него дорогим.
И теннис. Теннис — два раза в неделю в Москве и ежедневно в санатории на отдыхе. Тренером его был Корбут, и играл Александр Александрович превосходно…
Я вспоминаю, что когда-то здесь, в кабинете, стояло у Вишневских чучело аиста. Я тогда не успела расспросить у Лиды, что это за птица и почему ома здесь. Теперь аиста в комнате не было.
— Это ведь очень грустная история, — говорит Нина. — Дело в том, что Лидия Александровна всегда ездила на охоту с Александром Александровичем. Она отлично стреляла и била птицу влет. И вот однажды, будучи на Кавказе на охоте, Лидия Александровна увидела птицу в небе, прицелилась и сбила ее одним выстрелом. Птица упала, и оказалось, что это был аист. Охотник-сван, увидев убитого аиста, страшно заволновался и сказал, что это очень плохая примета: «Нельзя стрелять в аиста. Большое несчастье будет у вас!» Тогда ни Лидия Александровна, ни Александр Александрович не придали этому никакого значения — они не были суеверными. Но ровно через год Лидия Александровна там же, на Кавказе, упала замертво на корте… После смерти Александра Александровича я этого аиста убрала отсюда, отдала в школьный уголок.
В широкие окна с десятого этажа видна вся панорама Садового кольца. Тихий весенний вечер опустился на город. Здесь, в столовой, и рядом, в кабинете, все полно духом Александра Александровича. Здесь, кажется, еще живет и трепещет его энергия, ширятся его радость и доброта, слышится его смех, бушуют его гнев или беспокойство.
И мне почему-то становится грустно и больно до слез — слишком поздно пришла я сюда со своими «поисками». Можно было прийти раньше, пока он был жив… Но вдруг пронзительная и даже жестокая мысль пронизывает сознание — видимо, надо пройти через боль и горечь потери. Надо «выстрадать» книгу о нем, чтобы не ограничиваться биографической брошюркой. И чтобы написать эти строки, надо было отодвинуться во времени и пространстве, отойти подальше, как перед живописным полотном: чем дальше стоишь, тем больше охватываешь взглядом и умом…
Кстати, о живописи. Снова и снова разглядываю портрет Александра Александровича. Он висит у него в кабинете, и в нем тоже живет тот дух, который незримо витает в этой «последней пристани». Тут Александр Александрович еще молодой, полный мужества.
Но висит этот портрет в таком маленьком кабинете нашего академика, что буквально некуда отойти, чтобы «охватить сущность», как он сам говорил.
— Нина, почему вы не перенесете этот портрет в столовую? Ведь там есть где разбежаться глазу, чтоб как следует увидеть всю композицию портрета?
Нина молчит, потом нерешительно произносит:
— Да, конечно, надо бы перевесить. Но ведь он сам повесил его здесь, перед рабочим столом. Он, наверно, глядел в него, как в зеркало. Глядел в свою молодость. И это придавало ему силы. А теперь… теперь, пожалуй, пришло время перенести его в столовую.
Вечер становится гуще. Уже за окном трепещут огоньки в ближних и дальних домах. Нина приносит на подносе кофе со сливками, она мастерица готовить его, и я с удовольствием пью и слушаю, слушаю. Теперь уже это повествование о последних днях.
— Да, вот еще о необычайной любознательности Александра Александровича. Как-то, будучи в Германии в 1971 году, он решил отыскать могилу знаменитого хирурга Августа Бира, умершего в начале века. Оказалось, что немецкие военные врачи, сопровождавшие Вишневского в этой поездке, даже не слышали о Бире и они в панике бросились разыскивать по архивам все данные об этом ученом. Выяснилось, что был он похоронен в 1904 году близ Потсдама в маленьком городке, где еще жил его сын. Александр Александрович поехал туда, разыскал могилу с полуразрушенным крестом и сфотографировал группу врачей возле этой могилы…
— Нина, — прошу я, — расскажите, с какого времени он начал себя хуже чувствовать? Когда начался упадок сил?
— Началось с того, что к последней поездке в Америку Александр Александрович отнесся с какой-то нерешительностью. Ему очень не хотелось ехать. Я старалась удержать его, чувствуя какую-то тревогу, но не сумела. Отказаться он не мог, хотя все ходил по комнатам и бормотал: «Не хочу я ехать туда!.. Прямо противно входить в самолет». И все же поехал.
В Вашингтоне он пробыл двадцать дней на конференции, в клиниках и, видимо, страшно устал. Пора было щадить себя.
Я встретила его в декабре на аэродроме и поразилась перемене в нем. Он спустился с трапа, как сейчас помню, в гражданском пальто, и из-под полей шляпы я увидела совершенно белое, бескровное лицо, как маска. Я испугалась, и, видимо, это было так заметно, что Александр Александрович тут же бухнул: «Укачало». Хотя мы знали, что его никогда не укачивает.