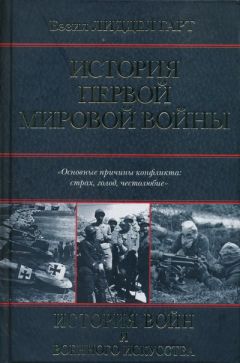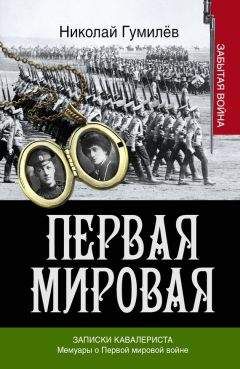Иосиф Кунин - Римския-Корсаков
Не нашла она отклика и в семейном кругу Корсакова. «Во всех газетах хвалят оперу и исполнение, — писал композитор сыну 25 октября 1899 года. — Мама, как ты уже знаешь, уехала в Петербург на другой день после первого представления… «Царская невеста» ей положительно не нравится (она даже готова в ней усмотреть приспособление мое ко вкусам публики, ход вспять и т. п.)… И как бы я сам ни был уверен в ее достоинствах и как бы ее ни превозносили самые развитые и искренние почитатели, у меня остается в глубине души некоторое щемящее чувство…»
ГЛАВА XII. ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ
Необыкновенная квартира. Переступив порог, забываешь улицу, по которой подъехал к дому, Москву, где находится эта улица, хмурый октябрь и сумрачный год — первый год нового века. Войдя в квартиру Врубелей на Пречистенке, оказываешься в царстве цвета и света. Малиновые, сиреневые, нежно-зеленые, золотистые ткани застилают низкие диваны, свободно свешиваются со стен, укрывают окна. Похоже на пещеру Аладдина или дворец джиннов, вознесенный на льдистую вершину Казбека.
Наряд Забелы дымчат и розов, янтарная брошь светится на груди, большие темно-синие глаза смотрят на дорогого гостя открыто и задушевно. Голос грудной, теплого альтового тембра. Его можно слушать, не слыша слов. Недавно она была Морской царевной, девочкой Снегурочкой, Марфой. Кто она теперь? Кем будет завтра? И что с ней самой будет завтра? Ее руки сиротливо лежат на коленях. Как защитить ее от потерь и несчастий?
Михаил Александрович Врубель, создатель и добрый дух этого искусственного рая, живет какой-то не совсем реальной жизнью. Мгновенно, не думая о средствах, он меняет по настроению все драпировки и наряды. Мгновенно переходит от упоения творчеством к сомнениям и снова к великим надеждам и титаническим задачам. Он знавал Мусоргского, встречался с ним в трактире «Малоярославец», где все, от постоянных посетителей до буфетчика, насвистывали или мурлыкали под нос «Как во городе было во Казани;» и «Селезня». И что-то неуловимо схожее чудится Николаю Андреевичу в этой широкой разбросанности, в началах без концов, в полете воображения, свободно покидающего область возможного и осуществимого. Художник хочет непременно расписать внутри все здание оперного театра — потолки, огромные стены фойе, лестницы. Пусть искусство овладеет вниманием посетителя с самого входа и незаметно поведет его за собой, зачарует, приготовит к восприятию музыки. Мысль прекрасная, думает Корсаков, но несколько фантастическая. Да и где найти мецената, который не был бы вдобавок самодуром?
С подкупающей доверчивостью Врубель делится планами, спрашивает совета. Еще в мае 1898 года он писал Римскому-Корсакову, что благодаря его доброму влиянию решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду. Время показало, что то не был мимолетный порыв. С той памятной зимы он творит под непрестанным воздействием оперной музыки Корсакова. В ее созвучиях, в безупречных по чистоте сопоставлениях оркестровых тембров, во всем ее складе он нашел нечто важное для себя. «Садко» он слушал около девяноста раз. «Салтана» Врубель полюбил глубоко. Совсем иное, чем в «Садко», море этой оперы дало ему перламутровые краски для декораций, для его акварельных «Жемчужин».
Если собрать картины Врубеля, в которых преломились сюжеты и музыка корсаковских опер, эскизы к их постановкам, майоликовые фигуры с плавно скользящими объемами и подвижными отблесками мерцающей поливы, то можно составить изумительный по разнообразию и красоте «музыкальный зал».
На почетной стене зала поместили бы большой холст с изображением девушки-птицы. Холодный ветер одел зыбью синее море близ скалистого острова Буяна. Дело к ночи. Меркнет узкая полоска зари на горизонте, но последние отблески окрасили розовым светом снежно-голубое лебяжье оперенье, заиграли на жемчугах и самоцветных камнях венца, на серебряном шитье подвенечной фаты, осветили хрупкие очертания девичьей руки и огромные печальные глаза сказочной царевны. Она похожа на Забелу и странно не похожа на нее — не ее глаза, не ее рот. От картины веет щемящим обаянием красоты — беззащитной, зовущей, тревожащей и недоступной. В музыке «Салтана» это настроение не сразу почувствуешь. Оно присутствует в опере, как и в сказке Пушкина, лишь как возможность; так мысль о предсмертной лебединой песне возникает в представлении о гордой лебединой красе.
21 октября 1900 года москвичи услышали и увидели оперу «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди». Могучего богатыря пел Секар-Рожанский, прекрасную царевну — Забела. Декорации и костюмы сказочной красоты создал Врубель. Спектакль стал праздником русского искусства. Пушкинская сказка, со вкусом и остроумием прилаженная к требованиям сцены Вельским, заблистала новыми красками. Появились и заняли значительное место, особенно в первом действии, не предусмотренные Пушкиным народные хоры, скоморохи, Старый дед. Царевна Лебедь в конце пьесы выступила, как шутил композитор, с «лекцией по эстетике» и призналась, продолжая за автора спор со Львом Толстым, что она не что иное, как олицетворение поэзии и красоты, и «сошла с небес для живых чудес». В год пушкинского юбилея (1899) Корсаков положил к подножию памятника поэту благоуханный венок, в котором цветы добродушного юмора переплетались с полынью народной мудрости. И над всем царил светлый пушкинский колорит.
В сущности, в опере еще не бывало ничего подобного. Словно по щучьему велению возник народный масленичный театр с яркими масками. Вот толстый и глупый старый царь. Вот его молодая жена — невинная жертва людской злобы — и коварные завистницы-сестры. А вот преславный и премогучий царевич, впрочем, шагу неспособный ступить без помощи царевны Лебедь. Дивно прекрасен благоутешный город Леденец с его чудесами, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Разве что музыкой да врубелевской волшебной кистью. Вот зазывалы. Они трубят в трубы перед каждой картиной оперы, приглашая честной народ посмотреть представление. Чудный, пестро раскрашенный, как карусельная лошадка, мир — детям на загляденье, взрослым на умное веселье, а кому и на благое размышление.
Если присмотреться, окажется, что в этом мирке, как в пузатой округлости медного самовара или выпуклой пленке мыльного пузыря, забавно, шутейно отражен целый мир русской жизни, не столь уж далекий от мира Александровской слободы. Чем не «царская невеста» горемычная Милитриса, взятая за старого царя и кинутая с младенцем «в бездну вод»? Чем уступят Бомелию сватья Бабариха и злые сестрицы-клеветницы? И разве не пародией на «царское слово», принесенное Малютой в дом Собакиных, звучит унисонное, по складам чтение-выпевание дьяками подложного указа, обрекающего на смерть царицу и Гвидона? А как живо и знакомо робкое заступничество народа, мгновенно пресекаемое окриком Бабарихи: