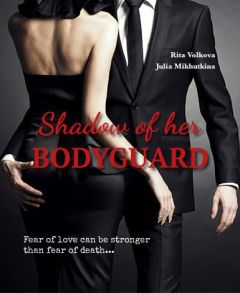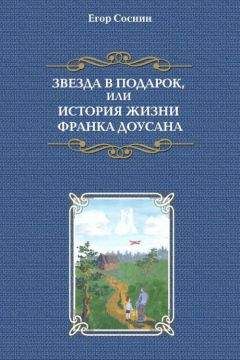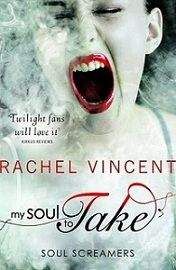Георгий Береговой - Три высоты
— Обязательно! — отвечаю я. — Только держать ухо востро! И аэродром, и станция наверняка защищены зенитным огнем.
Удар по станции застал фашистов врасплох. Зенитки начали бить, только когда мы уже выходили из пикирования. Слева от меня горы прорезала глубокая расщелина, подходы к которой конечно же были пристреляны немцами; справа лежала долина, откуда били вражеские зенитки. Я тогда сделал правый доворот прямо на долину, да еще с резким снижением, — упал, образно говоря, на стволы зениток противника. И когда сбитые с толку немцы перенесли заградительный огонь вперед по траектории моего предполагаемого курса, быстро отдал команду:
— Всем круто влево!
Девятка вслед за мной повторила маневр, и мы, целые и невредимые, оказались в спасительной расщелине. Девятка Кумскова ушла в противоположную сторону.
Конечно, повернуть в долину, на стволы бьющих по тебе зениток было страшновато: страх, если бы ему поддаться, направил бы прямиком на расщелину. Враг именно этого от нас и ждал, и в пристрелянном пространстве от станции до расщелины нашли бы гибель многие экипажи. А вот того, что, разделавшись с их эшелонами, мы вновь повернем к ним в тыл, в ощетинившуюся стволами зенитных батарей долину, противник ожидать никак не мог. Нам же перспектива оказаться в дураках да в придачу еще рисковать быть сбитыми придала дерзости. Обе девятки, отвернув после пикирования не к расщелине, а прямо на врага, сделали не то, чего ожидал враг, а именно то, что и нужно было в данной ситуации сделать.
Второй эпизод, свидетельствующий о том, что страх перед бездарной гибелью прибавляет иной раз дерзости, произошел на границе Венгрии и Чехословакии. Цель, которую предстояло штурмовать, отделяли от нас горы. Вражеские зенитки укрывались на самом гребне и по ту сторону склона, у его подножия. Идти на обычной высоте — значило бы попасть под огонь и тех, и этих. Крупные потери, таким образом, были гарантированы.
Что делать? Как ни крути, а зенитных заслонов не обойдешь — других подходов на цель не было. Решили рискнуть. Не уходить вверх, а, наоборот, сесть противнику на голову.
Гребень прошли с ходу, и сразу же — ручку от себя: вниз летели, как на салазках, того и гляди фюзеляжем борозду по склону прочертишь. Шальная очередь из автомата, даже винтовочный выстрел на такой высоте могли оказаться для самолета гибельными — до земли разве что рукой не достать. А внизу — зенитки. Шли мы на них прямо в лоб. В этом, собственно, и заключался весь фокус. Немцы, как и рассчитывали, стрелять не решились — побоялись попасть в своих, в тех, что засели на гребне. А чуть бы отверни вверх от земли — тут уж огня хватило бы со всех сторон.
Потом, когда все уже позади, понимаешь, что действовать нужно было именно так, и никак иначе, что риск нарваться на шальную очередь из автомата гораздо меньше, нежели идти на высоте в простреливаемой обеими батареями зоне. Но в те секунды, когда не знаешь, чем еще кончится твоя атака, когда в нескольких метрах под твоим самолетом проносится вражеская земля, а впереди по курсу глядящие тебе в лоб зенитки, чувствуешь, как по коже пробирает знобящий холодок, а гимнастерка пропитывается потом…
Словом, я не верю, что есть люди, якобы напрочь лишенные чувства страха. Страх испытывают все. Суть в другом _ как относится человек к страху, умеет ли он его подчинить или подчиняется ему сам. В одном случае чувство страха помощник и союзник: оно предупреждает об опасности, оценивает ее размеры и мобилизует силы для борьбы с ней; в другом — враг, превращающий человека в бессильного и слепого труса. И чаще всего только от самого человека зависит, чем окажется для него одно из естественных, данных ему самой природой качеств — верным помощником или, злейшим врагом. Поэтому, наверное, одинаково глупо и вредно как кичиться мнимым отсутствием страха, так и стыдливо скрывать от окружающих малейшее его проявление. Позорно не то, что кто-то испытывает в минуту реальной опасности чувство страха, а то, когда человек, упустив время и не научившись контролировать это чувство, становится его рабом, превращается в труса…
Государственная граница давно осталась позади. Война неуклонно катилась к концу, и летчики все чаще заговаривали о том, какой она окажется для нас, мирная жизнь.
В одну из таких минут передышек, когда боевых вылетов не было, мы сидели на опушке подступавшего к самому аэродрому леса возле костра, где пеклась картошка. Картошку пилоты привезли с собой в бомболюках. Идея загрузить бомболюки картофелем принадлежала Ивану Гусеву и Паше Иванову. Оба они обладали отменным аппетитом, о котором в полку складывались чуть ли не легенды. Гусев привез свой неукротимый аппетит из блокадного Ленинграда, а Иванов любил поесть, видимо, по причине своей комплекции. Когда оба появлялись в летной столовой, официантки, улыбаясь, спрашивали:
— Аппетит прежний?
— А что ему сделается! — абсолютно серьезно отвечали Гусев и Иванов.
И на столике перед каждым из них появлялись по две-три порции супа, столько же котлет с гарниром, по три кружки компота и изрядное количество ломтей хлеба. Летчики, подшучивая и пересмеиваясь, исподтишка наблюдали, как уписывают друзья тарелку за тарелкой. Особое рвение проявлял Гусев. Наголодавшись за блокаду, он вообще не мог равнодушно относиться к чему-либо съестному.
И вот когда полк получил приказ перебазироваться на новый аэродром близ одной из деревушек в Венгрии, Гусев предложил захватить на новое место мешки с картофелем.
— Не пропадать же добру! — уговаривал он летчиков. — Неизвестно еще, чем нас в этой Венгрии кормить будут.
— Да ты что, спятил? — возражали ему. — У нас и так груза под завязку! Чехлы, стремянки, колодки… Да мало ли! А он — картошку! Не в гондолы же ее насыпать.
— Зачем в гондолы! — стоял на своем Гусев. — А бомболюки на что? Туда и загрузим. Сами же потом спасибо скажете.
— А если вдруг враг под крылом? Чем бомбить будешь — картошкой? подшучивали над Гусевым.
— Бомбы мы на новом месте получим, — не сдавал позиций Гусев. — А вот ежели брюхо подведет, не до смеха будет. У снабженцев как? Нынче густо, завтра пусто…
В общем, уговорил. Так и пропутешествовала картошка в бомболюках по воздуху. А теперь пришлась кстати: пеклась в золе под углями.
— Ушицу бы к ней в котелке сварить, — мечтательно сказал Иванов. — В здешней речке, говорят, рыбы пропасть.
— Какая тут рыба! — лениво возразил Пряженников. — Если и была, немцы небось всю выловили. Да в придачу мин набросали. Ты за окуньком, а тебя ка-ак жахнет! Враз про уху забудешь.
— Насчет рыбы ничего не скажу, а пляж здесь хороший, — вставил слово Лядский.