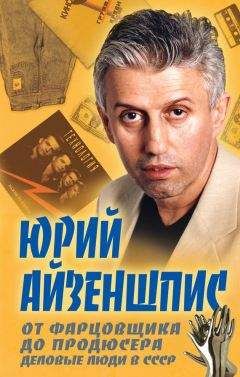Юрий Айзеншпис - Виктор Цой и другие. Как зажигают звезды
В заключительном слове я лишь частично признал свою вину, хотя уверен, что и полное раскаяние ни на что не повлияло бы:
— Да, я нарушал советский закон, но этому есть и некое оправдание. Я же не виноват, что в моих жилах течет коммерческая кровь испанских предков, и я ничего не могу сделать с этим наследственным даром. Это объективно. И еще. Мои сделки приносили не столько вред, сколько являлись экономической инъекцией и движением к прогрессу. И настанет время, когда частная инициатива будет поощряться. Обязательно настанет!
Моя пламенная речь особого впечатления не произвела. Помимо «десятки» усиленного режима, я заработал и конфискацию имущества. К сожалению, это касалось не только валюты, золота и мохера, но и вещей в моей комнате, например, коллекции из 5000 музыкальных дисков. Да и самой комнаты в 26 кв.м. Два лицевых счета, которые мы слишком долго ленились объединить, существенно облегчили эту задачу отъема. Естественно, квартиру в итоге родителям пришлось разменять — не жить же с подселением, вдобавок оказавшимся тихим пьяницей весьма низкого пролетарского происхождения! Мытарства и разбирательства по этому поводу продолжались еще года два после моего ареста: суды, жалобы, ходатайства и т. д. Сколько здоровья и лет жизни это стоило моим родителям, даже думать не хочется. Но уж бесследно эти нервотрепка и унижения явно не прошли.
Савельеву, как активному соучастнику преступлений, выдали пять лет общего режима. Больше всех повезло Лукьянченко — ему отвесили условный срок в 3 года. Везунчик уже тогда учился в мединституте и состоял в близких отношениях с дочерью его ректора профессора Лопухина. Лопухин, его будущий тесть, представлял общественную защиту, и весомость его имени сыграла роль в мягкости обвинения Саше. Хотя и само дело о спекуляции электрогитарой представлялось достаточно смехотворным.
Интересно проследить дальнейшую судьбу трех молодых людей, обвиненных судом в совершении преступлений в тот злосчастный день. Савельев — крупный ученый, биофизик, Лукьянченко — профессор медицины, работает в институте онкологии имени Блохина на Каширке. Не зря же они жили практически на площади Курчатова, считай, в своеобразном научном городке. Ну, а третий подсудимый — это я. Если в переводе на научную степень, наверное уже и академик. Шоу-бизнеса.
Кстати, в те годы в советской прессе обычно писали о наиболее громких судебных процессах, под популярной и любимой народом рубрикой «Из зала суда». Видимо, мое дело являлось вполне подходящим по масштабу злодеяний и возможному воспитательному последствию, ибо вскоре последовала статья в «Советской России». Она называлась «Серебряные струны», словно в память о музыкальной группе, с которой я когда-то катался по стране. Там проводились какие-то «умные» параллели, делались дурацкие обобщения, выводы и прочее, и прочее. Мне статья не понравилась. Бесталанная идеологическая заказуха.
После оглашения приговора меня перевели в другую камеру, где сидят уже осужденные судом. Сидят они в ожидании печатной версии своего обвинения, и это ожидание может длиться и неделю, а может и месяц. Все зависит от объема приговора и от количества самих приговоров, которые надо напечатать. Лично мое обвинение насчитывало страниц 15–20, в общем-то не слишком и много, поэтому его копию я получил на руки буквально через несколько дней. Прочел все внимательно и, конечно же, написал кассационную жалобу. И пока ждал ее рассмотрения в пересыльной тюрьме, получил первое свидание с родителями. Отец оставался непримирим и активно это демонстрировал, а мама же опять проливала слезы — все то же, как и на суде. В общем, я чувствовал себя вдвойне виноватым и несчастным. Итогом жалобы могла стать отмена приговора и отправка его на новое расследование, рассмотрение дела новым составом суда или смягчение срока. Но это в идеале. Практически же моя жалоба осталась неудовлетворенной, а значит, приговор подлежал незамедлительному исполнению, а я — этапированию на зону. Со следующими жалобами, которые называются надзорными, можно дойти и до Верховного Суда. Но пишут их уже в местах исполнения наказания, превращая это занятие в навязчивую и, как правило, бесполезную идею.
Что ж, значит — в путь. Слава богу, что и не в последний, но и не в добрый. И хотя выбирать мне не приходилось, я был совсем не прочь отправиться на зону. Я вполне освоил тюремное житье-бытие, и оно успело мне изрядно надоесть. По сравнению с камерой в пару десятков квадратных метров зона давала более разнообразное общение, возможность найти нормальных и интересных людей, куда больше вариантов прилично устроиться. Хотя кому что нравится, ибо на зоне все-таки надо работать. Поэтому некоторые находят тюрьму более привлекательной: этаким своеобразным местом отдыха, где можно ничего не делать. Кто-то развлекается азартной игрой, другие пишут длинные письма, третьи сами с собой беседы ведут. Но моя психика устроена иначе — работа совершенно не пугала (и не пугает), а вот замкнутое пространство угнетало.
В пересыльной тюрьме я находился около месяца, и в начале октября был отправлен в Красноярск. Конечный пункт твоего назначения определялся в Управлении исправительно-трудовых учреждений, которое находится при пересылке. Как только приговор вступает в законную силу, по поступающим разнарядкам тебя отправляют в одну из зон.
Куда именно? Помимо формальных моментов, связанных с видом режима, здесь присутствует изрядная лотерея. А особенно могут пригодиться связи, даже не самые тесные. Ведь нет никакого нарушения, если твое дело положили в другую стопку и тебя послали отбывать назначенный срок не в холодный Хабаровск, а в близлежащий Смоленск.
Попросить о более приятном маршруте и пункте назначения может и следователь, с которым ты хорошо сотрудничал, и прокурор, и общий знакомый, и знакомый общего знакомого. В моем багаже таких связей не нашлось, у родителей и друзей, к сожалению, тоже. Поэтому только через несколько лет благодаря неожиданно открывшемуся высокому знакомству мамы я смогу получить маленькое послабление.
Рано или поздно, всему приходит конец, пришел он и ожиданию отправки по этапу. Я уже обратил внимание, что все переезды происходят вечером, часов около 10. Вот и сейчас примерно в это же время я вышел из камеры с вещами и был отконвоирован в пункт сборки на вокзал. Там тебя принимает конвой, независимый перед администрацией пересылки, обыскивает прежде всего на предмет заточек и прочих режущих предметов и сортирует по направлениям. Естественно, по тем, что отходят сегодня ночью. Я оказался в группе «на Свердловск». При этом конечный пункт назначения я не знал, да особо и не интересовался — хрен редьки не слаще. Но догадывался, что он находится дальше Свердловска. Путь заключенного обычно проходит в несколько этапов, ибо по правилам более двух суток тебя не имеют права держать на сухом пайке. Хотя иногда кажется, что настоящая причина отнюдь не в этом. Движение по пересыльным тюрьмам словно является частью некоего устоявшегося ритуала подношения зека зоне. И оно просто обязано быть долгим, мучительным и безысходным — не в отпуск, поди, едешь! Еще со времен царской России вагоны для перевозки заключенных называют «столыпинскими». Они и являются основным символом этапа, главным соединительным элементом тюремной карты России. В целом же никакой экзотики, вполне обычный вагон, где проемы между купе затянуты решетками, где окна существуют только со стороны прохода и куда набивают невольных пассажиров столь же плотно, как и сельдей в бочку. И они там действительно засаливаются на славу!