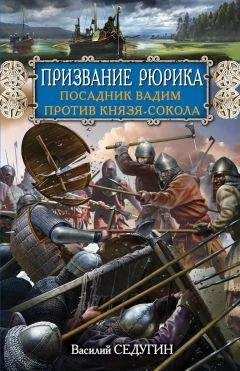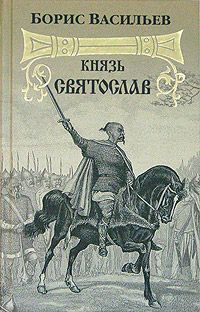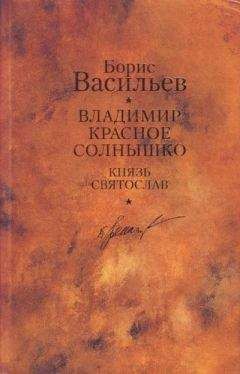Михаил Ардов - Легендарная Ордынка
— Да? — говорит он. — А что это означает?
— Ну, по смыслу самих слов очевидно, что кто-то чем-то питается, потом происходит пищеварение, а затем выходит — «продукт питания»… И главное, это наименование абсолютно соответствует качеству теперешнего продовольствия.
— Это интересно, — отзывается Габричевский…
Про Ахматову Габричевский говорил:
— Я ее боюсь.
И она о нем то же самое:
— Я его боюсь.
Как-то я привез Ахматову к Габричевским. Туда забрел случайный гость и стал расхваливать выставку картин Рериха. Ахматова и Габричевский молчали. Когда этот человек ушел, Анна Андреевна сказала:
— Александр Георгиевич, неужели вам нравится Рерих? По-моему, это немецкий модерн.
— Финский, — поправил Александр Георгиевич.
(Естественно, под словом «модерн» оба подразумевали определенный стиль начала века.)
Летом шестьдесят шестого года я писал в Коктебеле воспоминания об Ахматовой. Когда это было готово вчерне, я показал мемуары Габричевскому. Он отозвался весьма благосклонно и притом добавил, имея в виду Анну Андреевну:
— Это очень хорошо, что она была такая умная.
В шестьдесят пятом году, зимой, я впервые прочел «Четвертую прозу» Мандельштама, пленился ею и собственноручно переписал на машинке. (Как можно было догадаться, одной из причин появления этого шедевра было судебное дело, иск переводчика Горнфельда, который обвинял Мандельштама в плагиате.)
В Коктебеле я показал свой экземпляр «Четвертой прозы» Габричевскому. Она привела его в восторг. При этом я услышал такое:
— Я был свидетелем на суде Мандельштама и Горнфельда. В перерыве между заседаниями Осип Эмильевич повел меня как свидетеля со своей стороны в ближайшее кафе… Пока мы с ним сидели за столиком, он говорил мне почти все то, что здесь написано… Но — поразительное дело — тогда это не произвело на меня ни малейшего впечатления…
Я спросил его:
— А кто там, в этом деле, был прав?
— Горнфельд, конечно, — отвечал Габричевский, — Мандельштам у него все списал…
— Тогда почему же вы выступали со стороны Мандельштама?
— Ну… — Александр Георгиевич замялся. — Мандельштам все-таки поэт, а Горнфельд вообще неизвестно что такое…
Мы гуляем по Тепсеню. Я говорю:
— Я люблю стихи с отроческих лет. И вот для самого себя сформулировал, каким образом можно отличить хорошие стихи от плохих. Ну, разумеется, речь идет только о таких образцах, где полноценная рифма, абсолютное владение размером и т. д. В настоящих стихах всегда наличествует напряжение, струна, тетива. Если этого нет, то никакие формальные выкрутасы не помогут… Есть важное свидетельство об этом, которое оставил Мандельштам, его восьмистишие:
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вдох.
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.
Александр Георгиевич выслушал все и сказал:
— Это же самое и почти такими словами мне говорил Фальк. Он этого добивался в живописи.
С Робертом Рафаиловичем Фальком Габричевский был дружен и его картины ценил очень высоко.
Помню также его отзыв об Александре Тышлере, который на моей памяти один раз появился в Коктебеле.
— Пожалуй, сейчас это лучший художник, — сказал А. Г., а потом добавил: На этой территории…
Габричевский поделился со мной таким существенным наблюдением. Старая, классическая живопись всегда притягивает зрителя к себе, манит тебя внутрь рамы… А искусство XX века, модерн, наоборот — выпирает, вылезает из рамы, наступает на зрителя.
Будучи человеком воспитанным и учтивым, об искусстве Габричевский высказывался весьма откровенно. Тут истина была для него дороже самых близких отношений.
Старый приятель его Н. Ч. как-то преподнес ему свой роман, а потом спросил о впечатлении. Александр Георгиевич стал говорить нелицеприятно… В конце концов автор не выдержал и вскричал:
— Ну что ты от меня хочешь?.. Я же не Хемингуэй!
Я на всю жизнь запомнил наш с ним разговор о Михаиле Булгакове. Было это в 1966 году, только что вышел номер журнала «Москва» с первой частью «Мастера и Маргариты». Поначалу я был от романа в восторге. Александр Георгиевич охладил мой пыл, сказав:
— Он плохо пишет.
— А кто же пишет лучше? — вскричал я.
— Гоголь, — отвечал Габричевский.
Притом к самому Булгакову он относился с большой симпатией. Габричевский вспоминал, как в мастерской у Макса Волошина Леонид Леонов читал какой-то свой роман. А Булгаков при этом сидел на антресолях и дремал. Но как только чтение прерывалось, Михаил Афанасьевич демонстративно перевешивался через перила и бурно аплодировал Леонову.
XXVII
Воспитанный Ахматовой, я воспринял от нее отрицательное отношение к коктебельскому культу Макса Волошина. Но поскольку я подружился с Габричевскими, жил у них месяцами, мне волей-неволей пришлось посещать «дом поэта».
Раза два мне пришлось сопровождать тогда Александра Георгиевича в Духов день. День рождения Макса — 16 мая 1877 года — был на второй день праздника Пятидесятницы. Это дало ему повод всякий год устраивать семейный праздник именно в День Святого Духа, что само по себе весьма кощунственно, а уж коли речь идет об антропософе, да и язычнике, то ни в какие ворота не лезет.
В шестидесятых годах у Марии Степановны Волошиной в Духов день собиралось немногочисленное общество, состоявшее из интеллигентов второго, а то и третьего разбора. Какие-то отставные певички, немолодые, но восторженные девицы… Мы с Габричевским бывали чуть ли не единственными мужчинами. Угощение обыкновенно состояло из самодеятельных тортов с большим количеством питьевой соды, а также коробок с шоколадными конфетами, которые были решительно несъедобны. Марии Степановне дарили шоколад в большом количестве, и коробки эти месяцами или даже годами лежали в кладовке, дожидаясь своей очереди попасть на стол.
Вдова поэта привыкла к поклонению певичек и девиц, а потому изъяснялась всегда тоном капризным и безапелляционным.
— У нас в Коктебеле, — говорила она, — все раскопали этими гольденвейзерами…
— Бульдозерами, Мария Степановна, — почтительно поправляет какая-нибудь обожательница поэзии Макса.
— Какая мне разница? — отвечает вдова. — Все равно гадость!
А вслед за этим произносится такое:
— У нас в Коктебеле совершенно невозможно достать ни человеческого мяса, ни человеческого молока…