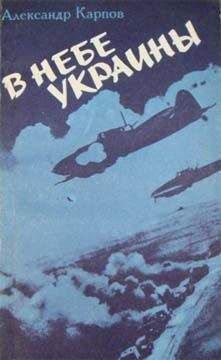Григорий Речкалов - В небе Молдавии
- Завтрак успеется, - отозвался Грачев.- Скажите, как там дела?
"Там" - это на фронте. Летчики ждали утешительного ответа. Что сказать этим людям, которые так напряженно ловят каждый его взгляд? Они воюют, не жалея себя, теряют товарищей. Из пятнадцати летчиков в группе осталось теперь только восемь, и еще неизвестно, кому из этих восьми доведется увидеть завтрашнее утро.
До последней минуты все верили: война будет на вражеской территории, малой кровью. А пока получается наоборот. Хорошо известно, что враг несет огромные потери, но он еще яростнее рвется в глубь страны.
Хархалуп твердо знал, что существует некая психологическая грань, перейдя которую иные люди могут потерять веру в свои силы. Конечно, не все и не сразу. Но достаточно одной капельке набухнуть и скатиться в противоположном направлении, как по ее следу потечет другая. Этого не следует допускать. И это самое трудное. Война есть война. Словесной шелухой, хвалебными гимнами тут не прикроешься. Что им сказать? Чтобы защищали Родину? Это они и сами знают. Чтобы не боялись смерти? Они ее боялись, так же как и он. Нет, нужно другое. Он, как командир, обязан не допустить, чтобы отдельные капельки неуверенности, превратились в ручей и захлестнули летчиков, породили ощущение беспомощности перед врагом.
Хархалуп подозвал Городецкого:
- Николай Павлович! Сколько, говоришь, исправных самолетов?
- Товарищ командир, я же докладывал: исправны все восемь, но...
- Так это же сила, друзья! А ну-ка, садитесь поближе.
И первым опустился на моторный чехол.
- ...Но после первого вылета, - продолжал Городецкий, - все будут неисправными. Нет воздуха. Привезли по одному баллону на звено.
- Присаживайся, душа промасленная, будет воздух. На лицах появились улыбки. Хархалуп смотрел спокойно, уверенно. Взъерошил волосы.
- Мой дед рассказывал- его прадед чистейший был хохол, из-под Полтавы; так он на ворованных лошадях за шведами до самой Румынии гнался. Хотел у шведского короля скакуна прихватить. Да так и осел на всю жизнь в Приднестровье. А вот отец деда - тот уже прожженный цыган - за Наполеоном скакал чуть ли не до Берлина.
- На чьих же лошадях? - рассмеялся кто-то.
- Конечно, не на собственных!- Хархалуп состроил такую гримасу, что все прыснули.
Неподалеку заработал на полную мощность мотор. Кто-то с дотошной пунктуальностью проверял его работу на всех режимах. Когда гул несколько стих, Хархалуп спокойно продолжал:
- Немцы захватили небольшой плацдарм на нашем берегу. Конечно, пехота турнет их обратно. Мы же на своих истребителях должны ей помочь. Как, Яша, поможем? - обратился он к маленькому смуглому летчику.
Вопрос застиг Яшу Мемедова врасплох: слегка растерявшись, он огляделся вокруг - товарищи ждали, что он скажет, и решительно произнес:
- Я, мы все, обязательно поможем наземникам. - Мемедов смущенно улыбнулся. - Гнаться ведь будем за фашистами не на ворованных кобылах, а на своих кровных самолетах.
- Правильно, Яша!
- Молодец!
Угрюмые лица разгладились, оживились.
Хархалуп понял: теперь можно о деле.
- Вылетаем через час после взлета первой эскадрильи. Садимся в Бельцах. Оттуда будем прикрывать войска. Нагрузка большая: до семи вылетов с боями. Как, выдержите?
- Нам не привыкать... - ответил за всех Грачев. - Но как фашисты...
- Бить их будем, чтоб чертям тошно стало! А пока давайте подзаправимся. Вот и завтрак.
Прибыла подвода с завтраком. Две девушки-официантки разостлали под кустами скатерти, и летчики расположились прямо на пахучей траве.
Завтрак был неспокойным. Многие старались скрыть свое волнение за шутками и нарочито громким смехом.
Крупное лоснящееся лицо нашего доктора Козявкина приветливо улыбалось каждому, кто подходил перекусить. Он заботливо осведомлялся о самочувствии и тут же выдавал маленькие шарики "Кола".
- Как спалось, товарищ Тетерин? Все знали, что Леня любит поспать.
- Спасибо. Хорошо, Митрофан Иванович, - ответил тот. Тон был обычный, фамильярно-снисходительный, но заспанное лицо выражало живой интерес, пока доктор отсыпал из коробочки порцию "Колы". Продолжая держать подставленную ладонь, Тетерин как бы между прочим заметил:
- Жаль только, ночка коротка.
- Да что ты! - шутливо удивился военврач и зажал ему ладонь с шариками: - По твоим глазам этого не вижу, а лишние шарики тебе во вред: спать не будешь.- И тут же занялся щуплым быстроглазым летчиком: - Как спалось, товарищ Шульга?
Васянька старательно прятал в сторону припухшие глаза. Худое, нервное лицо его посерело. Стараясь не дышать на врача, он что-то невнятно пробормотал.
- Ты что это, словно красная девица, глазки отворачиваешь? допытывался Козявкин, отсыпая кучку коричневых драже.
- Да он от твоей лысины отворачивается, слепит она его не хуже солнышка, - вступился Хархалуп.
- А, Семен Иванович! Здрасьте. Как спалось, уважаемый коллега? "Коллега" было любимым обращением доктора. - О, да я вижу, и на тебя моя лысина действует.
- Не твоя лысина, а мошкара проклятая" - ответил тот, принимая из конопатых рук доктора свою порцию.
- Оно и видно, глазищи-то покраснели, - подковырнул доктор и назидательно посоветовал: - крепкого чайку хлебни. Утречком хорошо помогает.
- Эх, Митрофан Иванович, не забывай, глазищи мои цыганские, лукавые. Ты бы лучше в душу заглянул. Горит она, в бой рвется.
- Вот это человек! - негромко сказал Иван Зибин. Зибин высказал вслух то, о чем я подумал. Могло ли быть что-нибудь лучше, чем находиться в одном строю с Хархалупом, Грачевым, Викторовым!.. Быть на главном направлении. Учиться побеждать.
Я слушал разговор друзей, и было мне радостно и грустно. Грустно потому, что воевал не с этими людьми, на счету у которых появились уже лично сбитые самолеты.
Да только ли у них! Далеко за пределами полка разнеслась молва о бесстрашных летчиках Ивачеве и Селиверстове. На глазах у пехотинцев они вдвоем разогнали большую группу фашистских бомбардировщиков. Все с уважением говорили о мужественном Атрашкевиче, об энергичном, смелом Шелякине, о бесшабашной и неразлучной паре - Фигичеве и Дьяченко, о многих других наших ребятах.
За все это время мне ни разу еще не приходилось попадать в тяжелые переделки, о которых то и дело рассказывали летчики, чтобы взрывались цистерны, горели машины, переворачивались танки.
Правда, Шульга уверял, будто на днях от моих бомб одна зенитка скособочилась. Но сам он в тот вылет куда удачнее отцепил свои бомбочки. Точно в переправу! Все были уверены, что он решил ее протаранить, и, когда "чайка" взмыла от воды свечой, каждый вздохнул с облегчением.
Кто мог подумать, что он способен на это!
Тщедушный москвич с грустными карими глазами, Шульга незадолго до войны бросил было летать. Несколько дней вражеского нашествия неузнаваемо преобразили его.