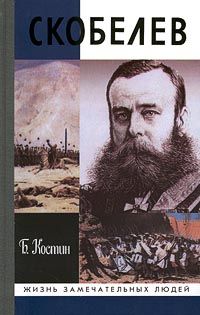Валерий Есипов - Шаламов
День ареста Варлам считал «началом своей общественной жизни — первым истинным испытанием в жестких условиях».
Следователь Черток (писатель прекрасно помнил фамилии всех своих следователей) направил его «для вразумления» в одиночку Бутырской тюрьмы и держал там почти месяц. «Вразумление» понадобилось потому, что Варлам отказался давать какие-либо показания относительно характера своей деятельности, связей и т. д. В протоколе приведен лишь его краткий ответ «по существу дела»:
«Я считаю, что руководство ВКП(б) сползает вправо, тем самым способствует усилению капиталистических элементов в городе и деревне и тем самым служит делу реставрации капитализма в СССР. Я разделяю взгляды оппозиции. Был я арестован в засаде. На всякие вопросы, относящиеся к моей оппозиционной деятельности, я отвечать отказываюсь».
Подобная линия поведения на следствии предусматривалась на случай ареста всеми его друзьями. Но какова откровенность Шаламова в высказывании своих политических взглядов! Он не прибегал ни к каким уловкам и говорил абсолютную правду — так, как он ее тогда понимал: исключительно с «левой», причем ортодоксальной точки зрения. Это было наивно, тем более перед следователем, и не случайно в поздние годы Шаламов писал, что в то время он был «юным догматиком». Но то, что он не признал предъявленного ему обвинения по статье 58—10 («пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания» — по Уголовному кодексу РСФСР 1926 года), — было серьезным и принципиальным поступком. Шаламову пришлось изучать новый кодекс на факультете советского права, и он заявил со знанием дела: «Считаю обвинение клеветническим и противоречащим содержанию 58 статьи. 58 статья направлена против контрреволюционеров».
Следователь и обвинители из Особого совещания ОГПУ тогда еще формально считались с законом, тем более имея перед собой такого «доку», бывшего студента-юриста. В итоге дело было переквалифицировано, но откровенно издевательски, для того, чтобы поставить строптивого оппозиционера на место — Шаламова осудили быстро, уже 22 марта, по статье 35 Уголовного кодекса как «социально вредный элемент» на три года концлагерей. (Тогда слово «концлагеря» еще было в ходу и лишь в 1930-м заменено на «исправительно-трудовые лагеря».)
Обычно по такого рода делам в то время давали ссылку или политизолятор. Суровость приговора, его цель мщения и унижения Шаламов особенно осознал, когда его погрузили в один вагон с ворами: «Татуированные тела, технические фуражки (половина блатных маскировалась в двадцатые годы инженерскими фуражками), золотые зубы, матерщина, густая, как махорочный дым…» Сам он был одет в то, в чем был арестован — перешитая шинель и шлем, без вещей и денег. «Пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона», — писал он.
Осмысливая первый приговор с поздней дистанции в «Вишерском антиромане», Шаламов делал вывод: «Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье. Это и есть одна из сталинских "амальгам"».
Формулировка писателя от первого до последнего слова выстрадана личным опытом, и тем не менее в ней есть отголосок некоторых оборотов, использовавшихся в работах Троцкого. Особенно это касается слова «амальгама», часто употреблявшегося лидером левой оппозиции начиная с середины 1920-х годов. Троцкий, как известно, постоянно прибегал к аналогиям из истории Великой французской революции, и «термидор» (в его понимании — перерождение власти большевиков после Октября) тут не единственный термин. Широко применялось во время французского термидора и слово «амальгама», идущее от алхимии и означающее сплав разнородных, несочетаемых материалов, а в приложении к политике — ложные, фальсифицированные обвинения-ярлыки, наклеивавшиеся на всех противников. Главной сталинской амальгамой был сам ярлык «троцкизма» как некоей демонической силы, постоянно противостоящей «линии партии» и связанной с контрреволюцией.
Шаламов уже тогда хорошо разбирался в тонкостях тактики Сталина и внутрипартийной борьбы, но на некоторое время ему пришлось об этом забыть.
Девятнадцатого апреля 1929 года он вступил — после заключительного пешего этапа под конвоем — в ворота Вишерского лагеря. Позади многодневный путь то с отцепками, то с прицепками вагонов с заключенными к различным поездам. Стояли и в Вологде. «Там, в двадцати минутах ходьбы, — писал Шаламов, — жили мой отец, моя мама. Но я не решился бросить записку». Последней железнодорожной станцией был Соликамск. Тяжким испытанием стал подвал местной пересыльной тюрьмы, располагавшейся в бывшей церкви, куда втолкнули 200 человек и заставили ночевать стоя, в страшной тесноте и духоте: конвоир тыкал штыком в глазок двери, откуда едва поступал воздух. Надпись углем на потолке подвала запомнилась Шаламову на всю жизнь: «В этой могиле мы умирали трое суток, но все же не умерли. Крепитесь, товарищи!» Это был сигнал от кого-то из предыдущего этапа.
Почти 100-километровый переход до села Вижаиха, где располагалось лагерное управление, по холодной апрельской распутице длился несколько суток. На одной из стоянок на утренней поверке произошел случай, показавший, до какой степени свойственно было молодому Шаламову чувство протеста против несправедливости. Он заступился за человека, которого жестоко избивал конвой. Это был сектант Петр Заяц, замеченный им еще в вагоне: тот постоянно молился. Заяц с разбитым в кровь лицом был втиснут в арестантский строй, где опустился на колени и кричал: «Драконы! Драконы! Господи Исусе!» К нему подошел начальник конвоя и пинком опрокинул на снег. Подоспели и другие конвоиры и стали топтать сектанта ногами.
«Я подумал, что, если я сейчас не выйду вперед, я перестану себя уважать, — писал Шаламов. — Я шагнул вперед и срывающимся голосом сказал: — Не смейте бить человека. Это не советская власть».
Избиение прекратилось. Но заступничество не прошло безнаказанным. Ночью двое конвоиров с винтовками вывели Шаламова из избы раздетым и заставили стоять в снегу. Сколько длилась эта экзекуция, он не помнил. Но в итоге он был избит сапогами: «Удар тяжелого каблука пришелся прямо в зубы, и рот наполнился теплой кровью».
Этот случай потом лег в основу рассказа, названного Шаламовым многозначительно — «Первый зуб». Выбитые зубы в его жизни оказались, увы, не последними, но это уже происходило на Колыме. А здесь ему дали ясно почувствовать, что он попал в другой мир, где по-своему понимают, что такое «советская власть», что «качать права» в лагере не принято, а заступаться за кого-то — тем более. Этого не могли понять и уголовники-блатари, которые поглядывали на молодого «фраера» недружелюбно, приучая к закону, что в лагере каждый отвечает только сам за себя.