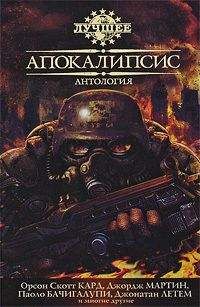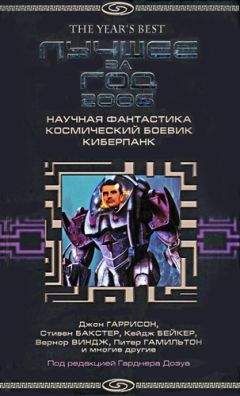Вернон Кресс - Зекамерон XX века
— Простите, не знал, жаль… Трудно было удержаться, я ж не нарочно…
— Скажу ей просто, что вы ушли. На пересылку женщине не попасть, только если через столовую…
— Большое спасибо! Передайте ей и… и… ладно, она знает, что я хотел сказать, все то же…
— Вам пора, ступайте первым, возьмете получше барахло. И не думайте, что я всегда такой грубиян — жить как-то надо!
Пересылка
Предусмотрительность Маркевича, пославшего меня первым в каптерку, не помогла, я получил одежду «седьмого срока»: старую шапку без меха, залатанную телогрейку, стеганые брюки, впору двухметровому баскетболисту, а мне доходившие до подмышек, стеганые старые бурки с фетровой подошвой, да и то «по блату», потому что большинство выписанных получили ватные чулки и галоши — это при минус шестьдесят!
Надзиратель повел нас через плошадку, мимо длинного гаража, к воротам небольшого лагеря для больничной обслуги. Пропустили быстро и направили в самый конец зоны, где стоял маленький барак пересылки. Барак был обнесен колючей проволокой, но ворота распахнуты — рядом над общим забором, который отделял лагерь от широкого поля, стояла большая вышка. Мне не терпелось скорее попасть в теплоту барака — совсем отвык от мороза. Впереди неизвестность, но пока предстоят несколько дней покоя — на пересылках редко тревожат тех, кто слишком слаб или болен, чтобы представлять интерес для «покупателя».
Покоя! В трех тесных комнатах — не больше двадцати квадратных метров каждая — жило около… трехсот человек. Да, да, трехсот! На двухэтажных нарах лежали привилегированные урки, а также несколько слепых и калек (они заняли места, когда пересылка пустовала, — ее иногда разгоняли в ожидании большого пополнения). Остальные же располагались между нарами, печкой и парашей. Днем, когда часть людей уходила на работу или в баню, сидели на нижних нарах, но вечером лежали как селедки, конечно, все на одном боку. При этом еще приходилось ждать отбоя, потому что пространство у печки занимали картежники — урки.
Когда я из коридора заглянул в левую «секцию», меня с верхних нар окликнул Юра Фрегат:
— Иди сюда, только что ушел пацан.
Он устроил меня наверху, предупредив своих, что я его друг, и вечером в столовой в моей каше появился изрядный кусок мяса, чая налили не двести граммов, а полную кружку.
Основное вечернее занятие — игра «перед фраерами» — проводилось на высоком уровне. Ругаться, показывать свое недовольство при проигрыше, даже разговаривать слишком громко считалось дурным тоном. Я не раз наблюдал, как исключали из карточной игры сомнительных субъектов, которые хотя и были уголовниками, но не принадлежали к правящей клике. На пересылке командовали суки, воры вне «закона», которые сами себя, конечно, называли «честными ворами». Иногда тот, кто проиграл все, вплоть до нижнего белья, ходил потом по секции и раздевал «мужиков», у которых случайно оказывались целыми ватники или рубашки, и тут же проигрывал и это. Взамен жертвам давали такие замасленные, грязные телогрейки, что ни один блатной не стал бы их носить и предпочитал сидеть полураздетым.
Утром, в обед и вечером ходили в столовую. Кормили скверно, исключая привилегированных, хлеб выдавали прямо у окна хлеборезки, ели его в бараке, чтобы скоротать мучительно долгое время между посещениями столовой.
Иногда к нам в секцию приходили женщины. Их пересылка примыкала к изолятору возле вахты, была вместе с ним отгорожена от общей зоны и стояла, как и наша, под вышкой. Поэтому убегали женщины из столовой, после ужина. Это были воровки, прокуренные, с наколотыми между грудями крестами, с красными от туберкулеза щеками, подчас красивые, но всегда худые, с бесконечно вульгарными лицами и хищными ртами. Они молча проходили между нами, залезали к своим «мужьям» на верхние нары и там предавались любви, не обращая внимания на окружающих. Иногда та или другая, сказав любовнику: «Подожди немного», поворачивалась к какому-нибудь слишком любопытному «мужику», орала: «Ты чего, падаль, глядишь, как он меня..?» — и затем равнодушно возвращалась к прерванному занятию.
Они иной раз оставались до утра. Ночью, случалось, вдруг вспыхивал свет, мы видели шапки со звездочками, надзиратели нас выгоняли на улицу, заставляя у порога обнажать стриженые головы, дабы ни одна «невеста» не проскочила в мужском платье. Потом обыскивали пустые помещения, находили женщину или женщин — они чаще приходили парами — и уводили в изолятор.
Изредка нас водили в баню, которую мы знали еще со времен ОП. «Покупатели» пока являлись редко, слабых они даже не смотрели.
2Утром, еще до подъема, явился начальник лагеря и приказал быстро произвести генеральную уборку. Кроме поломоев — не знаю, из каких соображений их выбирали, все они получали дополнительное питание, — внизу никого не осталось: одни забрались на нары, которые начали подозрительно трещать, другие пошли в столовую. Пол был вымыт, печка побелена, окна очищены от инея. К девяти нас разделили на две группы и одну погнали в баню. Держали там очень долго, воды было мало, белье, понятно, не меняли. В одиннадцать мы вернулись окоченевшими — долго проторчали на вахте, — но в барак пересылки нас не пустили, пока вторая смена не ушла мыться. Когда отсутствовала половина народа, в секции еще как-то можно было повернуться. Мы начали было согреваться, как вдруг открылась дверь и вошел самый могущественный на Колыме человек — начальник Дальстроя Никишов.
Он был в генеральской шинели и папахе, черты красного лица напоминали преуспевающего мясника, что, вероятно, еще более бросалось в глаза, когда он облачался в штатское, но, кроме как дома в Магадане или на семьдесят втором километре, где была его дача, никто не видал его без мундира и орденов. Ростом он был невысок, но очень плотен, с багровой шеей.
Обведя нас маленькими глазками, он резко повернулся к начальнику лагеря, долговязому капитану, которого я впервые увидел в военной форме, и спросил, будто мы какой-нибудь товар или груз:
— Почему так много?
— Потому что никто не берет их, товарищ генерал, слабы они — зима!
— Разгружать надо, в тесноте они не окрепнут. Пошли! Никишов зашел в столовую, выхватил по своей привычке у первого попавшегося зека миску и стал с нескрываемой гримасой отвращения хлебать жидкие щи. Потом узнали, что этот зек был дровоколом, которого кормили вчерашней едой, а парадную, приготовленную в честь генерала, держали к обеду, не рассчитывая, что начальство приедет так рано. Никишов встал из-за стола, молча вышел, за ним генерал-майор Титов — его заместитель по УСВИТЛу, адъютант, наш капитан и нарядчик лагеря. На пороге Никишов бросил через плечо: