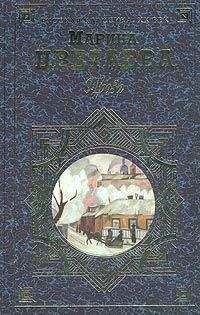Татьяна Доронина - Дневник актрисы
Из всех сокурсников мы радовались только за Евстигнеева. Он мелькал в эпизодах многих фильмов, и его появление, даже в крошечной роли, восхищало. Гастроли «Современника» с «Голым королем» Шварца, где Женя «царил», главенствовал и правил, играя в «моей» «Первой пятилетке», убедили нас в том, что дело не в названии театра, где ты работаешь, а в результате, в уровне, на котором работаешь сам.
«Маленькую студентку» пришел смотреть сокурсник Козаков. Он играл у Охлопкова в этой же пьесе, очевидно пришел «сравнивать». Как и в какой мере его волновали успехи Олега, которые были явны и очевидны, я не знаю. Но я смотрела на них двоих, стоящих друг против друга, видела лицо Олега и «внимающие» козаковским речам глаза его и слышала снисходительные козаковские интонации.
Олег играл отлично, имел большой успех, к чему уж так снисходить-то?
Пошла специально в Москве смотреть охлопковский вариант. Реакция зрителя на нашем спектакле и на охлопковском несопоставимы. Владимиров поставил пьесу, соблюдая законы жанра. «Бывшие» товстоноговцы играли наполненно и заразительно.
К чему же так «снисходил» наш бывший сокурсник — к нашему ленинградскому, а не московскому местонахождению? Или он уверовал в свой несоразмеримый дар столь свято, что талант Олега по сравнению с этим его даром «ничто»?
Закон театра суров: воздавай всегда по заслугам, находи силы на признание другого. Не сумеешь — пеняй на себя.
Олег стал играть в «Огнях на старте» — вместо Игоря Владимирова. За короткое время — стал ведущим, несущим на себе репертуар. Пергамент и Малышев сдержали обещание и дали нам «состояться» в профессии за два года с небольшим.
Итак — Ленинград. Театр на Петроградской. Театр прекрасен. Он стоит чуть «в глубине», закрыт от машин и трамваев деревьями. Актерские гримерные — все одинаковые, все квадратные, все с широкими окнами. Мы с Олегом живем в гримерной на третьем этаже. В общежитии все комнаты заняты, и нас поселили пока в гримерной. Это так хорошо — жить в театре. Не просто работать в театре, а проживать, пребывать, не уходить, не «расставаться».
Я репетирую Володина «Фабричную девчонку». Этот внешне веселый и озорной протест против вранья и причесывания всех под одну гребенку. Повторяю — «внешне» веселый, потому что протест, каким бы веселым он ни был, — порождает желание у людей «подавить», «заглушить» — свести на нет. Значит — борьба. А в борьбе одного со многими есть много печали.
В Театре Ленинского комсомола были свои корифеи, свои старейшины — Ольга Аверичева, Иван Селянин, Михаил Лобанов, Анна Лузина. Эти люди любили свой театр истинно, и их отношение к молодежи — было бережным и внимательным. Лобанов подходил ко мне после каждой репетиции и говорил, что, на его взгляд, получилось, а что нет, чем следует заняться в первую очередь. «Ты, в отличие от других персонажей, — никогда не назидай. Пусть тебя все учат, а ты — никогда. Тогда характер твоей Женьки будет легким, как дыхание. Ты читала Бунина “Легкое дыхание”? Прочти. У тебя в этом спектакле обязательно должно быть “легкое дыхание”. И вообще, поставь за правило каждый день прочитывать хотя бы страницу из Толстого, Чехова. У классиков надо учиться. Они — школа для актера».
Милая, открытая Анна Лузина, понимая, что ничто так не поддерживает, как похвала, говорила после каждой репетиции: «Молодец — и все. Ну что еще скажешь, когда молодец? Вот только в сцене с Федей ты сегодня вдруг характер бросила и стала играть лирику “вообще”. Ты любовь играй именно этого персонажа, а не любовь “вообще”. Интересно, когда характер сыгран во всех проявлениях. А тут любовь! В любви больше всего характер и проявляется. А так — молодец!» Или: «Танечка, я сегодня так смеялась. Ты слышала? Ну так ты сцену в общежитии “повернула”. Ну — красота. Вот только в финальном монологе жалеть себя стала. Она — не жалеет, она детдомовская, она никогда себя не жалеет. Не жалуется. Я уж знаю. Ну, ты молодец!»
Она сама была детдомовкой.
Это тепло профессионального товарищества и помощи согревало, наполняло сердце нежностью, хотелось играть так, чтобы эти хорошие люди и отличные актеры не разочаровывались, не огорчались, чтобы они радовались. А они умели радоваться — и Анна Лузина, и Петр Лобанов, они искренне радовались удачам в театре. Это не так часто бывает — радость от чужих удач.
Я любила этот театр и не только потому, что он мой первый и настоящий. В этом театре была своя неповторимая атмосфера общности, терпимости. И задавали эту общность, это единение именно «корифеи», которым было немного больше пятидесяти.
Саша Рахленко. В девятом классе школа устроила культпоход на «Сказку о правде» в Театр имени Ленинского комсомола. Сцена казалась из зала огромной — полной воздуха и солнечных лучей. Московская предвоенная весна дышала молодостью. Слева на сцене стоял стройный молодой актер и читал стихи:
Бывают на свете такие мгновенья,
Такое мерцание солнечных пятен,
Что до конца исчезают сомненья
И кажется — мир абсолютно понятен…
Он втягивал зрителей в эту весну, в эту юность, он ощущал ее красоту, неповторимость и ее близкий конец.
Нина Родионова, которая играла Зою, — была полна серьезом, чистотой и открытостью, присущий ее таланту драматизм позволял ей играть без надрыва, натуги и истерики. Она убеждала, эта Зоя, своей внутренней силой, которая питалась великим понятием — «правда». Именно эта главенствующая, направляющая наши поступки ответственность под названием «правда» была героиней спектакля. И камертоном в спектакле о правде — был чтец, ведущий, он — Александр Рахленко.
Это был актер широкого диапазона, увлеченно существующий и в драме и в комедии. В пьесе «Улица Три соловья, дом 17» он играл поэта — самодовольного, бездарного, упоенного своим «высоким предназначением». С немыслимым коком на голове, в длинном клетчатом пиджаке, в ботинках на резной толстой подошве. Длинный яркий галстук существовал отдельно, сам по себе, являя собой главное украшение стильного костюма и модного поэта. Легкой, чуть «вихляющей» походкой поэт проходил мимо обитательниц дома номер 17, подняв фалды пиджака — садился, закладывал ногу за ногу (светлые подошвы должны очаровывать, как и все остальное) и чуть в нос начинал «декламировать» свои стихи — не понятные простому смертному и такие «гениальные»! Заканчивался его очередной поэтический опус словами: «Почему он — кит? Почему он не навозный жук?» Многозначительная пауза, устало падающая кисть руки и глаза, жаждущие признания, похвалы и восторгов. Зрительный зал разражался аплодисментами и смехом.