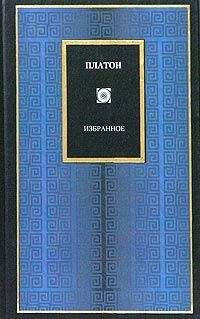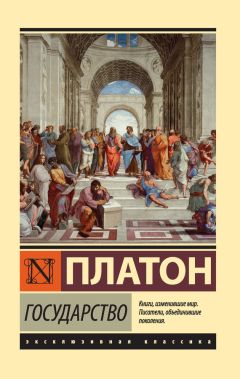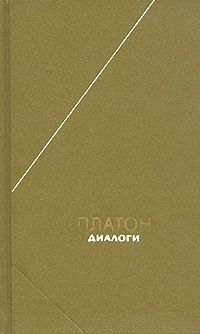Государство. С комментариями и иллюстрациями - Платон Аристокл "Платон"
– Да.
– Для мужчин назначена музыка и гимнастика?
– Да.
– Следовательно, эти же искусства, равно как и воинскую науку, надобно назначить и для женщин, и на это самое употреблять их?
– По твоим словам, вероятно, так.
– Впрочем, может быть, многое, – сказал я, – будучи противно обычаю, показалось бы смешным, если бы делалось так, как говорится.
– И очень.
– А что видишь ты здесь самое смешное? – спросил я. – Не то ли, очевидно, что в палестрах, вместе с мужчинами, будут заниматься гимнастикой обнаженные женщины, и не только молодые, но и состарившиеся, подобно тому как, несмотря на свои морщины и неприятный вид, в гимнасиях занимаются старики?
Палестра – частная гимнастическая школа в Древней Греции, где занимались мальчики с 12 до 16 лет (на острове Самос была палестра для взрослых мужчин). Главным упражнением там была борьба. Кроме того, программа обучения в палестре включала бег, прыжки, метание копья и диска, гимнастические упражнения и плавание. Мальчиков также учили красивой походке, внешней выправке и манерам.
Гимнасий – воспитательно-образовательное учреждение в Древней Греции. Там сочетались элементы общеобразовательного курса (обучение чтению и письму) с интенсивным курсом физической подготовки.
– Да, клянусь Зевсом, – сказал он, – при теперешнем-то порядке вещей это показалось бы действительно смешным.
– Но если уже пустились мы говорить, – продолжал я, – то не следует ли не бояться насмешек любезников, сколько бы и чего бы ни наговорили они о таком нововведении касательно гимнастики и музыки, не менее также касательно управления оружием и верховой езды?
Любезник – остряк, насмешник.
– Твоя правда, – сказал он.
– Напротив, если уже начали мы говорить, то надобно идти наперекор суровому обычаю, – просить этих насмешников, чтобы они не делали своего дела, а подумали серьезно и вспомнили, что еще немного протекло времени, когда эллинам, как теперь многим варварам, казалось стыдно и смешно видеть обнаженными даже мужчин, и что, когда открыли гимнасии – сперва критяне, потом лакедемоняне, – тогдашние шутники всё это, должно быть, осмеивали. Или ты не думаешь?
– Согласен.

– Но как скоро пользующимся гимнастическими упражнениями показалось, думаю, что лучше быть раздетым, чем окутываться, – смешное на взгляд исчезло пред тем, что по расчетам рассудка оказалось наилучшим, и стало видно, что тот суетен, кто смешным почитает нечто отличное от злого, что намеревающийся осмеивать это смотрит на какой-то иной вид смешного, а не на безумное и дурное, и серьезно направляется к иной цели, а не к добру.
– Без сомнения, – сказал он.
– Итак, здесь не прежде ли всего надобно условиться в том, возможно это или нет, и спорящим, – шутя ли кто, или серьезно захочет спорить, – отдать на рассмотрение, во всех ли делах породы мужеской способна участвовать человеческая природа женщины, или ни в одном, или в иных может, а в других нет, – да то же самое и касательно войны, – которому полу она свойственна? Не тот ли, должно быть, прекрасно окончит это исследование, кто положит для него такое прекрасное начало?
– И очень, – сказал он.
– Так хочешь ли, – спросил я, – мы, вместо других, будем спорить сами против себя, чтобы нападение на мысли противников производилось не без защиты их?
– Ничто не препятствует, – отвечал он.
– Скажем же вместо них: Сократ и Главкон, вам вовсе не нужно прекословие со стороны: вы сами, создавая государство, при начале устроения его положили, что каждый, по природе один, должен делать одно – свое.
– Думаю, положили, как не положить?
– Но не правда ли, что женщина, по природе, слишком отлична от мужчины?
– Как же не отлична?
– Так не следует ли обоим им предписать и дело, соответствующее природе каждого?
– Почему не так?
– Как же не погрешаете вы теперь, как не противоречите самим себе, утверждая, что мужчины и женщины должны делать одно и то же, если природы их слишком отделены одна от другой?
– Можешь ли, почтеннейший, оправдаться против этого?
– Если сейчас, то не очень легко, – сказал он. – Но я тебя же буду просить и прошу изложить за нас какой бы ни было ответ.
– Вот это-то предвидя, Главкон, и многое подобное этому, я боялся и медлил касаться обычая относительно избрания жен в воспитания детей.
– Да, клянусь Зевсом, – сказал он, – это, кажется, действительно дело неудобное.
– Конечно, неудобное, – промолвил я. – Оно вот каково: упал ли кто в небольшой пруд, или в обширнейшее море, – тем не менее все-таки должен плыть.
– Конечно.
– Так не надобно ли и вам плыть и стараться спастись от этой речи – в надежде, что либо какой-нибудь дельфин примет вас на себя, либо иная нечаянность будет вашим спасением?
– Кажется, – сказал он.
– Хорошо же, – продолжал я, – авось найдем исход. Мы ведь согласились уже, что иная природа должна иное делать и что природа женщины иная, чем у мужчины. А теперь говорим, что природы иные, то есть различные, должны делать то же самое. В этом ли вы обвиняете нас?
– Именно в этом.
– Как благородна, Главкон, сила состязательного искусства! – сказал я.
Платон не любил споров или так называемой эристики (искусства побеждать в спорах). Здесь он называет ее благородной, потому что вдается в спор против воли.
– Почему же?
– Потому, – отвечал я, – что, кажется, многие вступают в состязание даже нехотя и думают, что они не спорят, а разговаривают, оттого что не могут рассматривать предмет разговора, разделив его на виды, но преследуют противоречие в мысли только именное и таким образом ведут друг с другом не разговор, а спор.
– В самом деле, – сказал он, – у многих есть эта страсть. В настоящем случае не идет ли она, думаю, и к нам?
– Без сомнения, – сказал я, – мы, должно быть, нехотя попали в противоречие.
– Как?
– Мысль, что не та же природа должна совершать не те же дела, мы весьма мужественно и упорно преследуем только по имени, нисколько не рассмотревши, чем определяется вид иной и той же природы и к чему мы относили его тогда, когда иной природе приписывали дела иные, а той же – те же.
– Да, в самом деле не рассмотрели этого.
– Посему, – продолжал я, – нам можно, кажется, спросить самих себя: та же ли природа плешивых и волосатых, или они противны одна другой? И когда согласимся, что противны, – позволять ли волосатым шить сапоги, если шьют их плешивые, или плешивым – если волосатые?
– Это было бы смешно, – сказал он.
– От другого ли чего-нибудь смешно, – спросил я, – или оттого, что тогда мы положили не во всем ту же и отличную природу, а сохранили только тот вид отличия и подобия, который относится к самым делам? Например, врач и человек с врачебной в душе способностью имеют, говорили мы, ту же самую природу. Или ты не думаешь?
Главная мысль, которую Сократ раскрывает тут, состоит в том, что, для определения значения женщин в государстве, надо принимать в расчет не внешние свойства или способности граждан, а их существенные свойства, которыми они характеризуются как разумные существа, способные преуспевать в добродетели. С этой точки зрения, женщины ничем не отличаются от мужчин. Следовательно, они могут исполнять те самые обязанности, которые исполняют мужчины. Есть между мужчинами и женщинами разница в наклонностях и занятиях, но это не мешает женщине заниматься тем самым, чем занимается мужчина, как волосатый сапожник не препятствует шить сапоги лысому.
– Согласен.
– А врачебная способность и плотническая не отличны ли одна от другой?
– Должно быть, совершенно отличны.
– Так если род мужчин и род женщин, – продолжал я, – являются различными относительно некоторого искусства или иного дела, то эти дела, скажем, следует раздавать тому и другому; а поколику различие их обнаруживается тем, что самка рождает, самец же паруется, то здесь, скажем, вовсе нет доказательства, что женщина отличается от мужчины в отношении к тому, о чем мы говорим; напротив, еще внушается мысль, что стражи у нас и жены их должны делать одно и то же.