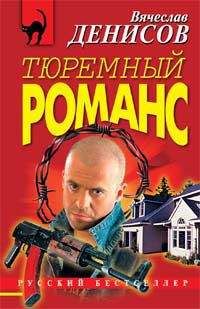Александр Шмаков - Каменный пояс, 1977
— Люблю, — согласилась Матильда.
— Это ведь погибель — сверх меры-то любить… — покачала головой Катерина. — Ну, а он что?
— А он об меня папиросы тушит, — сказала Матильда.
В дальнем углу шел деловой разговор:
— Вот такого карася поймал! — завирал бабки Гланин старикашка.
— Я давно говорю — пруд очистить и карася туда, а также всякого другого линя, — стоял на своем Исидорин мужик.
— А что, Поликарпыч, — вопросил Домкрат, — раз у председателя руки до пруда не доходят, давай-ка сами за такую нагрузку возьмемся, на общественных, я говорю, началах, правильно говорю?
— Так ведь трактор потребуется? — усомнился бабки Гланин старик. — Очищать же надо?
— Возьмем трактор! — совсем загорелся Домкрат, кося глазом на Матильдин узелок. — И очистим, я тебе говорю! Вон молодого попросим, Афанасий теперь нипочем не откажет, верно говорю?..
— Девчатам поднесите! — закричали женщины.
Девушки кучкой стояли в дверях. Им поднесли красного, девушки жались, отворачивались. Васюта, дочка Марии, совсем отошла в сторону и смотрела на Матильду, глаз оторвать не могла, не мигала даже. Некрасивая она была, Васюта, — белесая, скуластая, остроносая.
Бабки Гланин старичок вылез из-за стола, потянул ее за руку:
— Придержи-к мое место, Васют, я в один момент, проверю, как бы мерин не убег…
Васюта села. Сосед налил ей стопку:
— Ну, девка, поехали! В праздник трезвым быть — грех…
Перед ней, как на картине, обособленно, отъединенно от всех было лицо Матильды — бледное, застылое, красивое страшной, обреченной красотой. Васюте казалось, что красивее быть ничего не может, и было ей непонятно, как сидящие за столом мужики говорят кто о чем, когда нужно говорить только о ней, об этой непонятной и, конечно, ни для кого не досягаемой женщине.
Перед Васютой из ничего, сама по себе возникла стопка. Коварный сосед поглядывал в сторону. Васюта машинально взяла стаканчик, соседовы брови вздрогнули и замерли в ожидании, а через стол крикнула что-то и погрозила кулаком мать.
Васюта замигала белесыми ресницами, оттолкнула стопку. Сосед разочарованно поник. У матери вина в глазах и привычная растерянность.
И опалила Васюту жалость в эту минуту. И к себе жалость, а еще пронзительней к матери своей жалость, и ко всем другим, у которых что-то никогда не сбудется, и среди этих других оказалась Матильда, и догадалась Васюта, что роднит ее с Матильдой рабская приниженность, добровольное согласие на милостыню.
— Нет! — крикнула она самой себе и всем — и тем, кто собирался кинуть ей стершийся пятак, и кто не додумывался до этого. — Нет!..
В спину Васюты осторожно постучали. Бабки Гланин старик проверил мерина и хотел занять свое место.
— Нет, понятно?.. — крикнула ему Васюта.
— Однако же, то есть? — изумился бабки Гланин старичок, поспешно собирая доводы в пользу своего законного места.
Однако доводы не потребовались. Васюта поднялась и ни на кого не глядя направилась к выходу. И впервые шла прямо, и впервые заискивающей улыбкой не просила прощения за свое присутствие. И впервые какой-то парень уступил ей дорогу.
Из-за стола поднялась Катерина, поднялась из-за бутылок, из-за студня, налила себе в стакан белой, прозрачной.
— Бабы… — позвала Катерина.
Обвела всех взглядом, и шум медленно стих.
— Бабы, послушайте меня… Не любите вы нас, шоссейных. Бездомные, мол… А нам уж по сорок да сорок пять, а кому и пятьдесят… Которой, может, и удалось ребеночком на стороне разжиться, так и это счет вполовину. Где их взять-то мужей, когда от них уж и праха в земле не осталось. Нас двадцать баб на дороге работает, так у двенадцати похоронки в коробочках хранятся. Беречь бы нам друг дружку, бабы… Да не о том я хотела. Вот подруге нашей счастье выпало. Радуемся за нее, благ всяких желаем, а в душе-то говорим: почему не мне — счастье-то?..
Павла слушала, хмурилась, вспоминая, отдаваясь Катерининым словам. А Катерина говорила:
— Горько на душе-то! Так вот, чтоб легче стало, помянем, бабы, наших первых — кто мужа, кто нареченного, а кто и такого, которого и встретить не привелось, времени не достало… Помянем, бабы!
И выпила ее, белую, прозрачную, горькую.
И закивали бабы, и донеслись до их слуха взрывы и пулеметные очереди, и увидели они каждая своего, увидели, как упал он, скошенный пулей, и закричали они душой, а иная и живым тихим вскриком, и, отвернувшись, проглотили застрявший в горле комок их мужья, и помянули бабы слезами и зельем своих первых.
— Силушки нету… Песню бы! — как стон, прошел над столом бабий вздох.
И откуда-то из угла выступил чистый женский голос, а к нему с жаждой, как хотят пить в полдневную сушь, присоединились остальные. И посветлели, будто вышли из тени, лица, и уже кто-то потребовал с ликованием:
— Горько-о!
Павла и Афанасий посмотрели друг на друга. И растаяла, наконец, настороженность в теле Павлы. Глаза Афанасия приблизились, заслонили собой многолюдье и шум, увиделись огромно и странно, сквозь прозрачные тени ресниц.
Ночью Павла вышла во двор. Деревня еще гомонила песнями, но уже в отдалении. Около дома Афанасия было лунно и тихо. Павла медленно пошла по двору. Осторожно потрогала поленницу, сарай, какие-то непонятные в ночи, забытые предметы.
Остановилась посреди двора, освещенная луной:
— Дом…
И повторила, удивляясь:
— Дом?
И ответила себе тихо:
— Дом…
И засмеялась, прислонившись к сараю.
За дверью хлева мыкнула корова. Павла открыла дверь, корова протянула морду. Павла уткнулась в длинную щеку, погладила мягкие, замшевые уши и пошла дальше, вдоль плетеного забора.
И за плетеным забором увидела Павла согнутую фигуру Марии. Молча и неподвижно сидела Мария под яблоней, сидела, сжав руками виски. И неподвижный лунный свет бледно лежал на ее лице.
Из дома пришел голос Афанасия:
— Павла!
И тут не пошевелилась Мария.
Наутро, длинно ругнувшись, пошел пастух с колотушкой по деревне в третий раз.
Загулявшая деревня не хотела просыпаться.
Павла додаивала корову. Корова любопытно косила на нее темным овальным глазом.
— Вот и все, моя хорошая, вот и все, красавушка, — приговаривала Павла. — А как зовут-то тебя, я и не знаю. Хочешь, Красавушкой буду звать? Ну, чего смотришь, милая, ну, чего? На-ка хлебушка, сольцой тебе посыпала… Вкусно?
Ласково потрепала, подтолкнула из хлева:
— Иди, иди!
Понесла молоко в дом, процедила.
В другой комнате Афанасий сидел за столом, макал ученическую ручку в пузырек с чернилами, медленно писал.